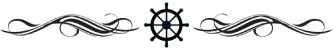
Глава 8
Чужой

Когда Анне Викторовне приходила охота обижаться, она обычно вспоминала, что в незапамятные времена Штольман не верил показаниям духов. Не то чтобы он и впрямь её обижал, просто иногда ей было необходимо что-то такое ощущать. Сам Яков Платонович не мог взять в толк, какая сладость в том, чтобы вспоминать то, что было при царе Горохе, но воспрепятствовать этому все равно не мог. Приходилось терпеть. К тому же, в таких случаях от него давно уже ничего особенного не требовалось, не в пример прежним временам. Во всяком случае, ждать от него каких-то особенных слов она давно перестала, годились любые. Надо было только сгрести её в охапку и прижать покрепче, лаская губами любимый локон на виске, с которым так и не смогла совладать ни одна причёска. Скорее всего, ради этого все и затевалось, хотя, на взгляд самого Штольмана, всего этого можно было добиться значительно проще. Он принимал эту невинную игру, каким бы ребячеством она ни казалась.
А может, дело как раз в этом? Они оба уже, мягко говоря, не молоды, вот Анне и нравится вспоминать то, что было между ними когда-то. Пусть так. Впрочем, понимать женщин он так и не научился. Если конечно, не брать в расчёт Нежинскую, которая вся была как на ладони, хотя любила представать загадочной. По части загадочности она ничего не могла противопоставить барышне Мироновой. Вот уж что творилось в этой милой головке, Штольман никогда не мог знать наверняка. Даже прожив рядом целую жизнь. Ну, кроме очевидных мотивов, вроде того, что надо помогать людям. А вот куда её могло завести это стремление, ему каждый раз предстояло разгадывать заново.
Вот теперь – на что она обиделась? Когда он успел что-то натворить, если они не виделись целый день? Или дело именно в этом? Она соскучилась, переволновалась, а он позволил себе задержаться до темноты. К работе Анна никогда, слава богу, не ревновала. Нина - ревновала. Или делала вид, что ревнует. Анну обижали совсем другие вещи. Самой древней и самой сильной обидой, которая доставалась из нафталина при необходимости, были именно духи. Хотя Штольман давно уже сдался и не думал брать под сомнение то, что какая-то сила позволяет его жене слышать тех, кто ушёл. Перекроить мировоззрение полностью ему не удалось, но уже много лет он довольствовался максимой Принца Датского: «Есть многое и на земле, и в небе, о чём мечтать не смеет наша мудрость». А потому он полностью принял на веру утренние показания духа, тем более что они согласовывались с его собственными впечатлениями. В жизни Твердохлебова-старшего определённо имелись тайны. И какую-то из них его сын счёл настолько важной, что прыжок с обрыва показался ему меньшим злом. Искать разгадку этой тайны, по мнению Штольмана, предстояло в окружении самого Твердохлебова, а вовсе не в лагере, где кто-то спровоцировал Костю на прыжок. К тому же, провокатор мог быть вовсе не из ребят, просто мальчишка решил убедить шантажиста принятыми в ребячьей среде радикальными способами. В любом случае, это дело Анны Викторовны. Сыщик предпочитал, чтобы она была рядом с детьми, если вдруг окажется, что дело и впрямь опасное. Во-первых, в толпе народу ей вряд ли может что-то угрожать. А во-вторых, дети – это единственное, что заставляло его любимого медиума быть осторожной и слушать голос здравого смысла. По крайней мере, в большинстве случаев. А ему нужно переговорить с отцом погибшего мальчика. Хотя бы для очистки совести.
Штольман сразу отказался от мысли идти пешком на поиски жилища Твердохлебовых. Даже если бы оно было не слишком далеко. От всех виденных им городов России Севастополь отличался совершенно немыслимым рельефом. И если улицы были сравнительно пологи, то попасть с одной на другую иногда можно было, только сделав изрядный крюк или спустившись, а то и того хуже - поднявшись по довольно крутым лестницам, которые местные по-морскому именовали трапами. Детвора скакала по ступеням, как горох, но сыщик давно вышел из того возраста, когда такое передвижение может доставлять удовольствие. К тому же, солнце, стоявшее в зените, обдавало город жаром, а передвигаться в тени деревьев удавалось далеко не везде. Поэтому Яков Платонович не стал искушать судьбу, рискуя заполучить удар, а сразу же направился к одному из соседних двориков. Там квартировал извозчик, доставивший их с вокзала к госпоже Краузе.
Хозяин был дома – сидел, разложив на коленях какие-то ремни и дратву. Кряжистый, усатый, в полосатой морской тельняшке он больше напоминал старого боцмана, каковым, вероятно, и был в прежние времена.
- Любезный, - обратился к нему Яков Платонович. – Хочу вас нанять сегодня, возможно, что и на целый день. Заплачу, сколько скажете.
Возчик поскреб щетинистый подбородок, не торопясь принимать щедрое предложение Штольмана.
- А я, вишь, починку затеял, - пробормотал он, кивая на упряжь, над которой колдовал.
На такое препятствие сыщик, признаться, не рассчитывал. Найти другую пролётку в стоящей на отшибе Карантинной слободке было проблематично.
- А что, барин, очень надо? – заметил возчик его хмурое неудовольствие.
- Да вот, получается, что надо. Парнишка погиб вчера на Херсонесе. Надо бы разобраться.
- А ты, товарищ, из милицейских, что ли, будешь? – внезапно сменил тон усач.
- Из милицейских, - невесело усмехнулся Штольман. – Только вот беда – нездешний.
- Да ты погоди, - вдруг заторопился возчик. – Я скоро, запрягу только. Ты пока посиди вот тут, в холодке. Вишь, пекло-то какое!
- Пекло, - согласился Штольман, заходя во дворик, плотно увитый виноградными лозами. В тени было хорошо.
- А ты сам из каких краёв будешь? – поинтересовался бывший моряк, выводя из конюшни свою престарелую гнедку.
- Сам-то из Петербурга, - отвечал Штольман. – А после где только меня жизнь не мотала. Нынче вот в Тверской губернии обретаюсь.
- Ну да, там, чай, попрохладнее будет, - признал возчик.
Сыщик только усмехнулся в ответ. Возчик был словоохотливым мужичком, но когда он вёз их от вокзала, беседу поддерживала Анна Викторовна. Теперь вот придётся самому.
- Ты прости, что я тебя всё барином, - не унимался старый боцман, впрочем, не забывая сноровисто запрягать. - Звать-то тебя как?
- Яков Платонович.
- А я Никодим Петрович. Ну вот, сталбыть, и познакомились!
Пока ехали, Штольман соображал, как исправить свой вчерашний просчёт. Он не удосужился узнать у местных милиционеров адрес Твердохлебовых, не предполагая, что он когда-то может ему понадобиться. Теперь же поиски нужного дома могли стать проблемой. Которую, впрочем, он предполагал решить при помощи старой народной мудрости: «Язык до Киева доведёт».
- Вот она, Платоныч, Большая Морская, - прервал его размышления возчик. – Куда дальше везти-то тебя?
Сыщик окинул взглядом перспективу улицы и сразу приметил купол православного храма.
- А вот к церкви и вези.
Если Твердохлебов и впрямь «из бывших», то наверняка ходил к попу – заказать отпевание. Расчёт оказался в целом верным. Церковный сторож сразу же указал ему, где искать квартиру Твердохлебовых. Но тут же огорошил тем, что хозяина он теперь не застанет.
- На кладбище он, сына хоронит.
Яков нахмурился, подсчитывая дни. Что-то странное выходило.
- Сегодня? Как-то не по-православному. А как же третий день?
Сам он, хоть и был закоренелым материалистом, под влиянием семейства Мироновых едва не превратившимся в агностика, с установленными порядками предпочитал по мелочи не спорить.
- Да сами видите, какая жара-то стоит, - вздохнул сторож. – А мальчонку на скалах и так побило – видели б вы!
Штольман тряхнул головой, признавая разумность такого решения.
- А хоронят где? – уточнил он.
- Так на Всесвятском кладбище, что за Карантинной слободкой.
- Тьфу ты, пропасть! – расстроился услыхавший это Петрович. – Знали б, дома бы остались. А пока доедем, уж закопают, поди.
Расстояния и скорости своего родного города извозчик знал хорошо. Когда пролётка остановилась у Всех Святых, из кладбищенских ворот уже выходили люди в тёмных одеждах, крестясь на собор, и разбредались в разные стороны. Проститься с Костей Твердохлебовым пришли немногие, детей же не было вовсе. Отца Штольман нашёл над свежей могилой, совсем недалеко от церковной стены. Холмик, укрытый уже привядшими цветами, располагался подле другого, явно не вчерашнего, но ухоженного. На каменной плите был выбит православный крест с перекладиной и надпись: «Зинаида Ильинична Твердохлебова, 1887-1919». Кажется, ребята говорили, что у Кости есть сестра лет шести? Мать, получается, родами умерла?
Услышав шаги, Твердохлебов тяжело обернулся. Штольман снял шляпу и перекрестился, потом встретился глазами с отцом Костика.
- Моя фамилия Штольман, Яков Платонович. Я милицейский следователь. Мне нужно с вами поговорить.
- Я вас помню, - бесцветно откликнулся Твердохлебов. – Вы были там вчера. На опознании. Однако не могу взять в толк, чем могу быть вам интересен. Гибель моего сына произошла от естественных причин.
Штольман не стал уточнять, что в строгом смысле слова, к здешней милиции он отношения не имеет. И без того разговор, похоже, будет не из лёгких.
- Боюсь, что не так всё просто, Борис Иванович. Есть основания подозревать, что ваш сын не по своей воле оказался на том обрыве. Кто-то вынудил его доказывать свою мужественность. Шантажируя неким предметом. Который, предположительно, имеет отношение к вам.
- Не имею представления, о чём вы говорите, - коротко и решительно оборвал разговор Твердохлебов, при этом ожёг сыщика тёмным взглядом своих нездешних глаз.
- А мне вот думается, что имеете, - не стал сдаваться Штольман. Странно для него было это нежелание отца разобраться в смерти сына. – Если это и впрямь так, то боюсь, что гибелью Кости дело не закончится. Примутся за вас, милостивый государь. А у вас, насколько мне известно, дочь.
Он нарочно употребил этот старорежимный оборот, чтобы подчеркнуть очевидное: он сам тоже «из бывших». Но Твердохлебов, хранивший свой секрет уже пять лет, не торопился откровенничать с незнакомым стариком, к тому же признавшимся в том, что служит в советской милиции. Что ж, на его месте Яков и сам едва ли стал бы. Хоть и странно ему было. Возчик признал классово-чуждого Штольмана за своего, обращался к нему «на ты» и именовал Платонычем. А бывший офицер собрата по классу видеть в нём не желал. Несмотря на пижонскую шляпу и трость. Непросто с ним будет!
Тем временем Твердохлебов в последний раз склонился над могилой, поцеловал невысокий деревянный крест, перекрестился, надел картуз и тяжело припадая на трость, двинулся к выходу с кладбища, не обращая более внимания на Штольмана. Сыщик смотрел ему вслед, соображая, стоит ли и дальше встревать в дела этого странного человека, или же предоставить его судьбе, которая к нему явно никогда ласкова не была. Уважить явное нежелание Твердохлебова пускать посторонних в свою жизнь, или отступиться? Тем более что дела-то как такового и нет.
Перед мысленным взором вспыхнул жаркий и вечно юный взгляд любимого медиума: «Ну, как вы не чувствуете, что всё это какой-то большой клубок!»
- Да чувствую я, чувствую! - проворчал он про себя.
Но проблему это не решало. Он же не Анна Викторовна, которая с отчаянной решимостью кидается на помощь даже там, где этой помощи не просят и не хотят. Невзирая на то, чем для неё самой это обернётся. Барышня Миронова могла вызвать доверие у живых, у мёртвых, у садовой скамейки. И даже у затонского следователя, надворного советника Штольмана – а это было потруднее, чем у всех перечисленных вместе взятых. Но она ведь всё равно не остановится, когда она останавливалась? Значит, ему придётся в этом разбираться.
Сыщик надел шляпу и заторопился вдогон хромающей фигуре. Не гоняться же за ним по городу, в самом деле! Однако его опередили. У церковных ворот дорогу заступили две знакомые фигуры в милицейских гимнастёрках.
- Гражданин Твердохлебов, вы должны пройти с нами, - веско и неласково произнёс Жебрак.
А Федя Сироткин коротко бросил:
- Руки!
Твердохлебов обречённо поднял руки, словно ожидал чего-то подобного. Сироткин сноровисто его обыскал.
- А что здесь происходит? – бросил Штольман, подходя.
Странное что-то творилось, воля ваша! После пяти лет, наконец, обратили внимание, что кладовщик из бывших офицеров? Так вроде по теперешним законам замирившихся белых просто так не расстреливают. Нужна хоть какая-то причина.
Жебрак молча глянул на Штольмана. Взгляд был не слишком приветливый. Федя Сироткин ответил без вызова:
- Портовые склады нынче ночью подломили. А сторожа пырнули ножом.
- Насмерть? – уточнил сыщик.
- Насмерть. Утром нашли уже холодного.
На лице кладовщика мелькнула непонятная гримаса. Сыщик успел поймать её краем глаза, вот только затруднился понять её значение. Мимика трудная, надо бы попристальнее к нему приглядеться.
- Есть основания подозревать гражданина Твердохлебова? – резко бросил Яков Платонович.
- Имеются, - неохотно ответил Жебрак. Уточнять он не пожелал.
- А именно?
- Замки вскрывали ключом.
- Не отмычкой?
- Нет. Это точно. Никаких посторонних царапин.
Странность, которую чувствовал во всём этом деле Штольман, наконец, явила себя во всей красе. Только этого ли он ожидал? И какая тут связь с гибелью мальчика?
Твердохлебов мрачно смотрел куда-то в сторону, заложив руки за спину – ничем не возмущался, ни о чём не спрашивал.
- Борис Иванович, вы как будто не удивлены? – поинтересовался Яков Платонович.
- Знаете, я уже ничему не удивляюсь, - без выражения ответил кладовщик. И тоже не соизволил пояснить, почему.
- Ключи ваши где? – сыщик отметил, что Федя не извлёк их при обыске. Он вообще ничего не извлёк, в том числе и ножа, найти который они явно рассчитывали.
- Дома, разумеется. Зачем бы я потащил их на кладбище?
- А минувшей ночью они были где?
- Дома, - бросил Твердохлебов, явно раздражаясь этими расспросами.
- А когда вы спали?
- Я не спал.
- Вы проверяли, они были на месте?
- Знаете, были другие дела. Я и без того знаю, что они там, где я их положил.
Жебрак, позволивший Штольману перехватить инициативу, снова напомнил, кто здесь хозяин положения.
- Проверим. Всё равно квартиру обыскивать.
Твердохлебова посадили в милицейский экипаж. Рядом сел Сироткин, Жебрак расположился напротив, ни на миг не спуская глаз с арестованного. Для Штольмана места не нашлось. Яков Платоныч молча поднял руку, подзывая Петровича. Это даже хорошо, что проедет один – есть время поразмыслить.
На месте Жебрака он, вероятно, тоже первым делом заподозрил бы кладовщика. Если бы не одно обстоятельство. Твердохлебов наверняка не ушёл бы из дому именно в эту ночь. Леонид и Федя молоды, своих детей нет, вот очевидное им и не приходит в голову. Чем был занят сегодня Твердохлебов, и почему он не спал, Яков Платонович понимал слишком хорошо.
* * *
Твердохлебовы квартировали во втором этаже трёхэтажного дома, построенного в том псевдорусском провинциальном стиле, который был в большой моде в эпоху Александра Третьего. В первом этаже располагалась какая-то мастерская или лавка. Штольман зацепил взглядом вывеску над воротами, намалёванную в красно-бурых тонах, соответствующих современным агитационным традициям. Вывеска гласила: «Социалистическая артель «Серп и молот».
В квартире с занавешенными зеркалами стоял тяжёлый покойницкий дух, смешанный с запахом церковных свечей и сосновых досок. Табуретки после гроба не были убраны и полы ещё не помыты. Твердохлебов явно жил бобылём, и никто не помогал ему управиться по хозяйству даже в нынешних тяжёлых обстоятельствах. А что же «тетка из Инкермана», о которой мельком упоминал Карасик? Похоже, что не только у Кости были трудные отношения с этой родственницей.
И всё же квартира казалась ухоженной и, что называется, старорежимной. Кружевная скатерть на обеденном столе, тяжёлые портьеры на окнах. На стене в гостиной - портрет красивой и утончённой женщины, похожей на поэтессу-акмеистку Ахматову. Письменный стол, книжный шкаф, патефон. Яков Платонович молча качнул головой. Образ жизни выдавал Твердохлебова, что называется, с потрохами.
Между тем, обыск начали, не дожидаясь хозяина. У порога топтались понятые: бородатый мужчина средних лет в косоворотке и круглых очках и узкоплечий долговязый малый лет двадцати. Дюжий парень в белой гимнастёрке рылся в ящиках комода. Подле книжного шкафа стоял щуплый человечек в гражданском, с острыми живыми глазами и крупным носом. Сероватая щетина топорщилась на бритой голове, на подбородке и над верхней губой, придавая облику незнакомца что-то неуловимо крысиное. Это сходство усиливалось удивительной манерой заинтересованно поводить носом. Человечек листал какой-то увесистый том. На шум шагов он обернулся и с интересом уставился на Штольмана.
- Вы кто?
При этом левая бровь крысоподобного человечка высоко вздёрнулась.
- Штольман Яков Платонович, старший следователь Затонского РОВД, - недовольно пробурчал сыщик, неожиданно обнаруживший на постороннем лице своё коронное выражение. Неужели, оно было какой-то профессиональной мимической печатью?
- А документики позволите?
На остром личике мужчины не было ни тени доверия. Штольман молча предъявил своё удостоверение.
- Так-так, - промолвил человечек, внимательно изучив его документ. – А здесь вы по какой надобности?
- По личной, - коротко ответил сыщик. – А с кем имею честь?
- Старший оперуполномоченный Севастопольского уголовного розыска Щедронов Валентин Валерьевич. А где гражданин Твердохлебов?
- Я Твердохлебов, - глухо произнёс кладовщик, выдвигаясь из-за спины Сироткина. – Чем могу быть полезен?
- Можете, конечно, можете, - как-то доброжелательно и хлопотливо произнёс Щедронов, глядя на него с ласковым выражением, как гурман на отбивную. – Книжка у вас иностранная. Языками владеете?
- Владею, - сухо отозвался Твердохлебов. – А какое отношение…
- А вот спрашиваю здесь я, - с тихой угрозой перебил его Валентин Валерьевич.
Штольман не вмешивался, стоя у дверного косяка и остро поглядывая вокруг. Ход мысли севастопольского опера был ему понятен.
Твердохлебов покосился на понятых. Под его взглядом мужики заметно смутились и потихоньку отступили в прихожую. Яков Платонович подумал, что ему не нравится выражение на лице хозяина квартиры. Что это - печать обречённости? Это с чего он себя так поспешно похоронил?
Жебрак и Сироткин присоединились к обыску. Милиционеры действовали грамотно, не переворачивая всё вверх дном, но и не пропуская ни малейшего уголка. У Якова Платоновича сложилось впечатление, что они точно знают, что ищут.
- Валентин Валерьевич, у вас есть список похищенного?
Щедронов оглядел его с подозрительным и ревнивым вниманием. Но список всё же дал. Перечень украденного отражал широкие интересы воров и неплохое знание конъюнктуры рынка.
- Лист медный 1,2 миллиметра – пять листов, - прочёл Штольман. – Мыло хозяйственное – четыре коробки. Патефонные головки – ящик. Три ящика махорки, ого!
Похитители поживились на славу. Одна только украденная махорка по рыночным ценам тянула на полтора месячных заработка Якова Платоновича.
- Панбархат алый – восемь рулонов, - сыщик изумлённо поднял бровь. - Это для кого же такая роскошь?
- Исполком заказал для городского театра – занавес обновить, - охотно сообщил ему Федя Сироткин, отрываясь от исследования хозяйской постели.
- В руках всё не унести, тут подвода нужна, - заметил сыщик.
- Может и была подвода, - хмуро ответил Жебрак. – Только дождя нет уж месяц, следы не разглядеть – то ли они свежие, то ли давным-давно оставлены. Мало ли на склад телег заезжает?
По мнению Штольмана, интерес вызывала не только подробная опись похищенного, но и скорость, с которой Щедронов её добыл. Время – два часа пополудни. Быстро управились.
- А откуда взялся список? – поинтересовался Яков Платонович, имея в виду, что кладовщик едва ли мог об этом рассказать, ведь он был на похоронах собственного сына.
- Сличили записи в конторских книгах с тем, что наличествует. Это было нетрудно, вскрывали только один из складов. Видимо, хорошо знали, что брать.
- Может быть, - пробормотал Штольман, соглашаясь с коллегой. – Ключи нашли?
- Разумеется, - несколько ядовито ответил Шедронов.
- Где они были?
- Я всегда держал их на гвозде в кладовке, - чётко произнёс Твердохлебов. – За исключением того времени, когда я на службе. Тогда они при мне.
- На службе! - со значением повторил опер, загадочно улыбаясь.
- Кажется, вы меня подозреваете? – холодно осведомился кладовщик.
- Ключи у вас есть. Что где лежит, вы лучше всех знаете, - ласково улыбнулся опер. – Где вы были нынче ночью?
В глазах Твердохлебова полыхнул тёмный огонь. Кладовщик вытянулся в струну, судорожно стискивая трость. Даже если прежде ему как-то удавалось сходить за пролетария, то сейчас маска слетела напрочь.
- А сами как думаете, Валентин Валерьевич? – быстро произнёс Штольман, не давая Твердохлебову рта раскрыть. – Тут совсем ещё недавно гроб стоял.
Сыщик сам никогда не гнушался давить на подозреваемых, выводить их из себя, добиваясь момента истины. Но есть же предел жестокости. Во всяком случае, у Якова Платоновича он был.
- Дал ключи подельникам, а сам оставался дома для отвода глаз, - отмахнулся Щедронов.
- Я никому не давал ключи! – отчеканил Твердохлебов. – Они всегда при мне либо здесь, в моей квартире, на гвозде в чулане.
Он внезапно запнулся, отводя взгляд. От Штольмана не ускользнуло это мимолётное замешательство. Щедронов, кажется, тоже его заметил, только интерпретировал по-своему.
- Ага, значит, нынче ночью всё же орудовали вы сами! – взгляд опера вспыхнул торжеством. – А нож где? Выкинули?
- Вы с ума сошли, - холодно ответил кладовщик, с видимым усилием беря себя в руки.
- Погодите, Борис Иванович, - снова вмешался Штольман. – Вы ведь о чём-то сейчас подумали.
- Это не имеет значения, - глухо пробормотал Твердохлебов.
- Всё сейчас имеет значение. Особенно для вас, - продолжал настаивать сыщик.
Подозреваемый качнул головой, потом всё же произнёс:
- Извольте. Пару недель назад мне показалось, что я потерял один из ключей.
- Показалось?
- Да. Он довольно быстро нашёлся.
- И вы не доложили об этом начальству?
- Не было необходимости. Это случилось в воскресенье. Я обнаружил пропажу с утра, потом решил ещё раз всё перетряхнуть и нашёл его. Он завалился в старый ботинок.
Штольман не привык верить подобного рода случайностям.
- От какого склада ключ, вы помните?
- От четвёртого.
По тому, как разом встрепенулись Жебрак и Сироткин, Яков Платонович понял, что он на верном пути.
- А какой склад был нынче ограблен?
- Четвёртый, - быстро ответил Федя.
- Делом займитесь! - рявкнул на милиционеров Щедронов. И нехорошо посмотрел на Штольмана. Штольман только хмыкнул про себя. Не дай бог, ещё окажется, что этот тоже возрос на сказаниях Ребушинского.
- А вы, как будто, не верите в эту историю, Валентин Валерьевич?
- Не верю, - на лице Щедронова вновь возникла плотоядная усмешка. – С чего бы мне верить? Взгляните сюда, гражданин Твердохлебов! Или лучше сказать: «господин Твердохлебов»?
Следователь с видимым торжеством выложил на стол один за другим два предмета: патефонную головку и какую-то карточку. Подозреваемый уставился на эти предметы с заметным удивлением.
- Не узнаёте? Или, точнее, делаете вид, будто они вам незнакомы?
Штольман отступил к стоящему на этажерке патефону и поднял крышку. Головка была на месте.
- Это лежало в кармане вашего плаща. Не удержались, принесли добычу домой, Борис Иванович?
В тёмных глазах кладовщика кипела бессильная ярость, смешиваясь с отчаяньем. И не сказать, чего было больше.
- Вы!.. – начал он глухо. Потом оборвал себя и махнул рукой.
Щедронов коротко хмыкнул:
- Да вы ещё не всё разглядели. Поглядите, какая карточка интересная! – он поднял со стола фотоснимок. – А кто это тут у нас?
Твердохлебов подошёл на негнущихся ногах. Лицо вмиг помертвело. Яков Платонович подошёл тоже и взглянул из-за его спины. На снимке была группа каких-то офицеров. Передние пятеро сидели, трое располагались за их спинами. В одном из стоящих без труда угадывался Твердохлебов. Белая выпушка его погон выдавала форму дроздовца. Снимок явно делали в гражданскую.
- Откуда это у вас? – почти беззвучно произнёс бывший офицер.
- Думали скрыться, штабс-капитан? Свою-то карточку вы, полагаю, сожгли, - весело предположил Щедронов. – Но такие преступления трудно спрятать, не так ли? Всегда найдутся свидетели.
- Я не совершал преступлений, - с усилием разомкнул челюсти Твердохлебов. – Да, я служил во Втором офицерском конном полку весной восемнадцатого года, но под Новочеркасском был тяжело ранен и покинул армию. С тех пор я живу в Севастополе. Вы можете опросить свидетелей, вот хоть моих соседей. Ваш понятой Захар Полуянов знает меня лет семь.
- Захар Полуянов, говорите? – остро блеснул глазами Щедронов. – Подите-ка сюда, Захар Егорович! Не стесняйтесь.
Бородатый мужик нерешительно проник в комнату, смущённо тиская картуз.
- Вы можете подтвердить, что господин Твердохлебов… - опер сделал многозначительную паузу. – …невиновен в военных преступлениях?
- Никак не могу, товарищи! - мужик мазнул взглядом по Штольману, но не опознав в нём «товарища», поспешно вернулся к Щедронову, продолжая сверлить его преданным взглядом. – Братец мой единоутробный с дроздовцами бился под Шаблиевкой, убили его там. Однополчанин его заходил после войны, вещи кое-какие Антошкины отдал. Фотокарточку эту я в тех вещах нашёл.
- А прежде почему не говорили? – недобро поинтересовался опер.
- Ну так… сосед всё же. И деток жалко было. Но раз уж так всё теперь, то, как советский гражданин, я должен…
- Я не был под Шаблиевкой, - упрямо набычившись перебил бывший штабс-капитан. – Вы лжёте! Или однополчанин тот солгал. Этот снимок сделан был здесь, в Крыму, в госпитале, где я лечился.
- Зачем бы мне лгать, товарищи? – испуганно моргнул за стёклами очков свидетель Полуянов. – Я же свой, советский! Артель «Серп и молот», вы же знаете.
- Да не о вас речь, Захар Егорович, - поморщился Щедронов, отпуская его взмахом руки. – Нам бы с господином штабс-капитаном разобраться!
Воспользовавшись тем, что опер выпустил из рук снимок, Штольман поспешил им завладеть, чтобы разглядеть получше. Ещё одно из лиц показалось ему смутно знакомым. Жаль, лупы с собой нет, а носить очки он так и не привык. Лицо мужчины, сидящего на снимке в самом центре, он точно где-то видел. Правда, было стойкое впечатление, что видел не во плоти. Пенсне, прусские усы-стрелки…
- Кто лечил вас здесь, в Севастополе? – быстро бросил он Твердохлебову.
- Доктор Краузе, - ответил бывший офицер с некоторым удивлением. Потом словно бы опомнился. – Только допросить его вы уже не сможете. Ваши расстреляли его в двадцатом году.
Вообще-то, были у Якова Платоновича способы допросить мёртвого. Только зачем? Есть же и живые свидетели.
- Ну что, Твердохлебов, будем признаваться? – почти по-доброму произнёс Щедронов. – Кто ваши сообщники? Кто убил сторожа? Где спрятали украденное?
- Погодите, Валентин Валерьевич, - остановил его Штольман. – Тут что-то не сходится.
- Что не сходится? – раздражённо откликнулся опер.
М-да, не хотелось бы играть роль Якоба фон Штоффа в М-ской губернии, но местный следователь покамест не видит очевидного.
- А вот смотрите сами. Костю Твердохлебова шантажируют каким-то секретом его отца. Мальчик надеется своим геройством выкупить некий предмет, на который нельзя смотреть. Вероятно, имелась в виду вот эта самая фотография. Костя был уверен, что карточку ему отдадут, если он сумеет прыгнуть со скалы. Потому что нечто подобное уже имело место, и тогда ему что-то отдали. Смею предположить, что отдали ключ от четвёртого склада. После того, как сняли с него копию.
Твердохлебов слушал его с напряжённым вниманием, по мере того, как Штольман говорил, на лице всё явственнее проступало отчаяние. Жебрак с Сироткиным тоже замерли у дверей. На простодушном Федином лице читалось удивление, Леонид непонятно хмурился. Щедронову логические выкладки затонского следователя явно не понравились.
- Откуда вы взяли эту сказку, господин хороший? – процедил он. – И с чего это вдруг белогвардейскую сволочь защищаете? - бровь оперуполномоченного вздёрнулась грозным знаком вопроса.
Штольман только вздохнул. Не в первый раз с ним такое. Да, видит Бог, и не в последний. Как-то всю жизнь у него безошибочно получалось переть против течения и вставать на дороге у тех, кто облечён властью. Даже в тех случаях, когда он этой самой власти верой и правдой служил. Просто каждый раз находились те, кому власть нравилась больше истины.
Он понял, наконец, кого ему смутно напоминают ужимки и методы Щедронова. Уваков Илья Петрович, каким он был в их последнюю встречу. Наслаждающийся моментом своего могущества и во что бы то ни стало мечтающий увидеть его, Штольмана, слабость и унижение. Не вышло ни с тем, ни с другим, но не в этом суть. Вот сейчас, тридцать шесть лет спустя человек, совершенно на Увакова не похожий, мечтает, чтобы ему, Якову, стало страшно. Просто потому, что происхождение у него для нынешних времён не подходящее. Опять же, не он первый. Приснопамятный московский товарищ Ардашев был не в пример страшнее, просто потому что имел над Штольманом реальную власть. Да и в Питере, когда Васька, не разобравшись, законопатил его в камеру Василеостровского отделения, тоже могло закончиться гораздо хуже. Другое дело, что несмотря на окончание гражданской войны, желающих посчитаться с классово чуждым Штольманом почему-то вокруг не делалось меньше…
Случись в прежние времена что-то подобное истории с Панютинским мандатом, головы тоже неминуемо полетели бы. Начиная с полицмейстера, допустившего такое непотребство в рядах подчинённых. Иное дело, что Николай Васильевич обладал известной гибкостью хребта и ухитрялся такие вещи вовремя предвидеть и удачно обходить. Удалось же ему замять ту позорную для Штольмана историю с убийством Ферзя. Нынче таких стратегов, умеющих направить и рассеять начальственный гнев, в Затонском отделении не наблюдалось.
Душу вынимали обстоятельно и подробно, целых два месяца. Допрашивали всех не по единому разу, но Яков Платонович отчётливо понимал, какой трофей для тверского начальства был наиболее желанным. К тому же, если вдуматься, был ли какой-то иной выход? По справедливости, наказать должны были Евграшина, но что толку? Заменить бывшего городового на посту начальника РОВД катастрофически некем. Это означало, что на его место пришлют кого-то со стороны, а как ещё бывшей полицейской ищейке удастся сработаться с новым человеком? И на кого ещё взыскание накладывать? На Ваську, который долго упирался, не желая признавать наличие крота в отделении? Или может Редькина от машины отрешить? Заменить начальника угро хорошим сыщиком вполне возможно. К тому же, товарищ Смирной во всей этой истории выходил по всем статьям герой, спасший непутёвого начальника и получивший при исполнении тяжёлую рану.
Советоваться ни с кем Штольман не стал - к чему? Выслушивать увещевания и сожаления, а потом всё равно поступить так, как только возможно в скверной этой ситуации? Просто взял всю вину на себя, немало порадовав этим вконец изнемогшего от фирменного затонского упрямства проверяющего тверского комиссара. С должности его сняли с формулировкой «за допущенную небрежность». Может, стоило и вовсе уйти, не зря же плотно думал над этим уже сколько времени. Однако претила мысль о том, что станут в городе говорить: выжившего из ума заговорённого сыщика турнули на пенсию. Так он и остался служить под началом Василия, страшно это всё переживавшего, хотя уж его-то вины в сложившихся обстоятельствах не было никакой. Пришлось его утешать, и Штольман сам не заметил, как напрочь растерял свою броню, став Ваське не только наставником, но, по существу, вторым отцом.
Евграшин принял эту историю стоически, зато бушевали Лиза с Редькиным, настаивая, что надо было не сдаваться, а добиваться справедливости. Лизавета Тихоновна, был такой момент, стала так превозносить каждый шаг следователя Штольмана, что превзошла в мифотворчестве своего покойного супруга. Пришлось сделать ей внушение. Лиза обиделась слегка, но в своих писаниях стала сдержаннее. К осени всё как-то забылось за новыми делами. И Яков Платонович совсем не ожидал того, что произошло в первых числах ноября.
Явившись как-то поутру на службу, он застал всё отделение при полном параде, в новенькой, только что полученной форме. Непривычно взволнованный Евграшин перед строем зачитал приказ: «В честь шестой годовщины Октябрьской революции наградить следователя Штольмана Якова Платоновича именным оружием».
И протянул обескураженному сыщику кобуру с новеньким наганом, на котором было выбито: «Я.П. Штольману – за верность, мужество и доблесть». А потом вдруг Евграшин вытянулся в струну и отдал ему честь по отменённому революцией воинскому обычаю, как младший по званию - старшему. И весь строй невпопад потянулся к фуражкам. Яков Платонович почувствовал вдруг в горле неловкий комок, кровь отлила от лица, зато к глазам хлынул жар. Штольман неловко поднял руку к штатской своей шляпе – впервые с корпусных времён, и отсалютовал в ответ. Следовало что-то сказать, но, как всегда в подобных случаях, язык сковала немота, и он сумел только выдохнуть с превеликим трудом:
- Спасибо, товарищи…
Может, и не стоило ему здесь вставать поперёк дороги местному оперуполномоченному, вызывая в очередной раз нехорошие подозрения: полицейская морда, по всем статьям чужой. Всё равно скоро закончится этот незадавшийся отпуск, и он вернётся в ставшее ему единственно родным Затонское районное отделение милиции. А Твердохлебов? Одним расстрелянным офицером в Севастополе станет больше.
Вот только как быть с верностью? С верностью себе самому. Это Щедронов может игнорировать все несообразности дела, но Штольману как от них отмахнуться? И дело вовсе не в том, что Твердохлебов ему близок, как «товарищ по классу». Товарищами ему давно уже стали Евграшин и Смирной. А Твердохлебов… может статься, что он просто невинен. И значит, следует искать настоящих преступников. А не тех, кто подходит на эту роль больше всего.
И не пришла пора ещё Штольману бояться тех, кому он не нравится. Научится ли он этому когда-нибудь? Да, пожалуй, поздно старому кобелю новые трюки учить. Так и помрёт неисправимым упрямцем. А значит, работать будем так, как привыкли - и гори оно всё!..
А теперь первое дело - поговорить с госпожой Краузе. И с любимым медиумом посоветоваться.
_____________________
Примечание:
Штольман не мог знать знакомые нам переводы «Гамлета», принадлежащие перу Лозинского и Пастернака, ибо они были сделаны только в 30-х годах ХХ века. Поэтому фраза приведена в переводе Николая Полевого. Именно он был популярен в России в последней трети XIX века.


 -->
-->



 Как всегда, это отдельное удовольствие читать ваши разборы.
Как всегда, это отдельное удовольствие читать ваши разборы.



