
("Дело о растаявших чертежах.№7603" упоминалось в романе "Почва и судьба" в Главе 4. "В Затонск").
***
К утру приморозило, и расторопный дворник, мелькая локтем над белым фартуком, энергично высеивал на панель свежий песочек: профессорам и студентам не должно быть скользко, когда они подойдут к высоким дверям.
«Уж Савельич аб ентом спазаботится...», – бормотал он себе под нос.
Мимо Савельича, по морозкому сахару мостовой стрекотали колесами пролетки с барышнями и дамами, которые зябко кутались в меховые горжетки; офицеры печатали скорый шаг; тарахтели тачками мастеровые, – словом шла обычная утренняя жизнь Царскосельского проспекта.
Этот кусочек «Царского» шоссе, по которому вот уже сто с лишком лет правящая династия проезжала отдыхать загород – в любимое Царское село и обратно – был идеально четырехэтажным, без единого деревца, но чистеньким, деловым. Дворники соблюдали опрятность панелей и мостовой – бывая здесь, нельзя было и понять, что совсем рядом кишит низовым элементом Сенной рынок и уходят вдаль мрачные районы бедняцких доходных домов. Невдалеке лежала подо льдом Фонтанка, и мартовское солнце уже вплавило в ее подтаявший панцирь мраморные прожилки.
Савельич торопился справить дела: он вычистил скребком опасную весеннюю наледь, прогнал случайную стаю собак, и даже слазил на треугольную крышу здания. Там неловко поползал на крепком брюхе над золотым двуглавым орлом и гигантской вывеской «Институтъ инженеровъ путей сообщенiя императора Александра I» и посбивал сосульки, которые умудрились нарасти за ночь.
Парочка новобрачных ворон попыталась прогнать его с крыши, злобно каркая и бия черными крылами прямо над макушкой, но дворник не мог допустить, чтобы ледышки попадали в ученые головы. Служащие института были вечно погружены в себя и ужасающе рассеяны, а потому за ними был нужен уход и призор, как за детьми малыми. Впрочем, «прохфессоры», несмотря на рассеянность, награждали щедро...
Потому старательно исполнив свою миссию, в восемь часов Савельич протер рукавом медную бляху и вытянулся во фрунт на главном посту – «при дверех». В течение следующего часа он услужливо распахивал тяжелые створы, когда очередной ученый муж появлялся на пороге святилища.
…Профессор Белелюбский Николай Аполлонович, смешно прижимая к плохо застегнутой шинели пухлый портфель, спешил меж прочими – в свою выстраданную, грохочущую машинами лабораторию, которой руководил вот уже три года.
Лаборатория механических исследований, наконец, отделившись от химической, въехала в просторное помещение с огромными окнами, и у Николая Аполлоновича были на нее большие планы. Группе его инженеров предстояло провести серию опытов с отечественным цементом и мостовыми металлами – для определения сопротивлений и прочих механических свойств русских материалов, незаслуженно заброшенных строителями...
Отечественная школа строительной механики нуждалась в подобных исследованиях. Ведь Николаевская железная дорога, вместе с мостами изрядно подгнившая с 50-х, по высочайшему приказу Александра II споро реконструировалась инженерами института. А материалы приходилось закупать в Бельгии и Портланде, и профессор Белелюбский почитал делом чести доказать, что русский цемент не хуже, а то и лучше подходит для этих работ.
Николай Аполлонович с помощниками уже заменил на линии Петербургъ-Москва несколько десятков деревянных мостов. Он сам разработал способ быстрой замены деревянных конструкций на металлические – и работа кипела! Столь же быстро его инженеры с рабочими поднимали насыпи и меняли сгнившие шпалы.
«Но главное! – Николай Аполлонович спрятал улыбку в пышные баки и даже немного зарделся от удовольствия, ведь это было его гордостью: – инженеры его лаборатории, лучшие инженеры России, умеют произвести перестройку мостов без перерыва в движении поездов!».
Так он думал, глядя мягким, чуть навыкате, ореховым взором куда-то в себя, пока не подошел к дверям.
- Доброго утречка, господин профессор! – убедительный поклон Савельича, и – дверь распахнулась перед важным инженером.
- Здравствуй, здравствуй, брат Савельич… Удачи сегодня в изысканиях… – Белелюбский не нашелся, чем окончить фразу и сунул дворнику гривенник.
- Всенепременно, Ваше благородие! – заулыбался дворник в усы. – Чево нужно – все сыщем, отчего ж не сыскать?...
Белелюбский поспешил по украшенным лепниной коридорам и мраморным лестницам, на ходу расстегивая шинель, и распахнул дверь в любимую лабораторию.
На него обрушился привычный гул и грохот станков. Николай Аполлонович пристроил куда-то шинель и тросточку, и первым делом направился к инженеру Оренбургского железнодорожного Общества Березину, с которым свела его судьба. И который теперь проверял под давлением прочность цементных отливок. Отбой станка был такой, что в ушах звенело: на манометре краснела стрелка высокого давления, и барабан для записи стрекотал вовсю.
- Как идет, Владимир Ильич? Что получили на сегодня? Аай?!... Повторите, прошу покорно!... Н-не слыыы-шуу!
- …ровожу… асчет… верстий!... Веряю по… ечению... По сечению, говорю! – прокричал Владимир Ильич, – …ажется… правы… лайполлонович! Цемент выдержит.
- По сечению… выдержит… понял Вас! – Белелюбский мягко тронул Березина за плечо, – продолжайте!
Он подошел к Константину Яковлевичу Михайловскому, высокому, светловолосому, военной выправки инженеру – хозяйственному куратору лаборатории, ведавшему всеми закупками и сметами. Тот увлеченно возился с металлическими болванками, пристраивая их под пресс.
- К завтрему, Николай Аполлонович, думаю подготовить запрос на новую партию металлов. Через месяц будем пробный пролет для Сызрани лить.
Инженеры лаборатории Белелюбского работали нынче над проектом нового, доселе невиданного по протяженности, Волжского моста в местечке Сызрань. Мост обещал стать революционным словом в европейском мостостроении, и Николай Аполлонович так и горел опробовать свежие, пока еще секретные идеи. Шутка ли – полтора километра волжской воды перекрыть сооружением, да не простым, а с железною дорогой!... Тут особая хитроумная технология нужна!
Профессор радовался: за год проект был составлен и вчерне отчерчен, теперь требовалось собрать данные сопротивления материалов, все систематизировать, и – даст Бог – через год приступить к строительству.
В шуме и грохоте он двинулся в светлый угол, где у высокого окна в своей мини-лаборантской хозяйничал Евгений Карлович Кнорре: 30-летний невысокий инженер с остренькой бородкой, обучавшийся строительству в Цюрихе. Евгений Карлович заведовал направлением кессонных работ – тех, которые проводились под водой. Он был сложившимся опытным мастером, и Белелюбский очень ценил его.
- Доброе утро, Евгений Карлович. Ну что у Вас на сегодня?
- Добгого здгавия, Николай Аполлонович. – приветливо заграссировал Евгений Карлович. – Видите ли, сегодня хочу поставить сегию опытов по монтажу балок с новыми отвегстиями… Вот-с, готовлю макет. – И он показал миниатюрные балки, выполненные в точном масштабе, которые собирался погружать в испытательную ванную с невской водой. - К вечегу, думаю, будут пегвые гезультаты…
- Аа, чертежи, которые я Вам показывал? Моя новая идея?
- Да-да! О котогых мы говогили на пгошлой неделе. Выполнил балки по Вашим чегтежам.
- Очень рад, Евгений Карлович! Очень рад. Продолжайте.
Осмотрев вверенное хозяйство, Белелюбский подошел к студентам-старшеклассникам Ланжерону, Агурскому и Воздвиженскому, которых сам отобрал как будущих своих преемников. Эти студенты уже имели звание репетиторов и помощников профессора, и помогали Белелюбскому во всем.
В лаборатории имелся собственный гектограф – удобный прибор для печати множественных копий. Он позволял снабжать студентов аккуратными сборниками лекций профессора, а Николай Аполлонович освобождался от нудной обязанности диктовать, и успевал руководить проектами учебных мостов, выезжая с учениками на стройки.
Троица как раз усердно трудилась над курсом лекций «Строительная механика и искусство» - они проверяли данные на подручных станках и тут же вносили правки. Похвалив помощников, удовлетворенный профессор собрался уже идти в свой кабинет, как вдруг его окликнул взволнованный донельзя, крутолобый и бледный Александр Брандт, личный его ученик, лучший из всех его студентов, и практически его правая рука.
- Николай Аполлонович, прошу Вас взглянуть… – Брандт как-то неловко сжимал ценный журнал с черновыми наработками Белелюбского, где были собраны все чертежи по расчету отверстий для гигантских мостов, все последние идеи и все смелые предположения профессора. Это был, можно сказать, его личный рабочий дневник, лишь лучшему ученику Брандту дозволялось его хранить, и он приносил его в лабораторию каждый день.
- Господин профессор, беда… – вымолвил перехваченным голосом Александр. Он ме-едленно раскрыл чертежи где-то в середине, и они вдвоем склонились над журналом…
Профессор почему-то оробел. Через пятнадцать странных секунд он с ужасом непонимания, как в замедленном сне вдруг осознал – на его глазах чернила неумолимо исчезали… Растворялись. Совсем. Будто вымечтанных чертежей, его быстрых заметок и небрежных рисунков не было никогда – на листах оставалась лишь девственно-белая, глухая пустота.
Брандт отлистнул вперед, и снова профессорские записи – раздумья нескольких лет! – растаяли без следа. Профессор выхватил журнал: лихорадочно раскрывая, где попало, страницы, он снова и снова терял то, что было для него дороже всего! Он не мог поверить в происходящее.
- Что это такое, Александр... Аай? Что это?! Ниче… го… не понимаю. – профессор вдруг начал задыхаться и, завертев головой, растерянно оглядел лабораторию. Вокруг все грохотало, как всегда – бешено и успокоительно, и головы его инженеров склонялись над работой. Профессор рванул душивший ворот и, возведя потрясенные ореховые очи на помощника, выдохнул:
- Идемте ко мне в кабинет. Срочно!
Через пару часов участковый глава полицейского отделения Адмиралтейского района лично заехал к Путилину. После бестолкового изложения глава горячо попросил разобраться с диковинным приключением.
- Ибо-о-о… неясное это дело, дражайший Иван Дмитриевич! Дюже заковыристое. Градоначальство-то с нас требует, а наука – зверь мудреный, мда-с. – Он досадливо крякнул. – Тут подход нужен, - и потрогал потный лоб.
***
День клонился к вечеру. По бледной эмали северного неба разметало прошитые опаловым солнцем облака, и они стали похожи на размытые ветром сияющие перья. Не иначе, державный орел обронил их с могучих крыл, облетая дозором свой Город.
А Город опрокинула весна, и он отразился в проталинах графитово-золотым ковчегом, и мелькающая голубизна в его льдах изумляла горожан. Нева уже вскрылась где-то наверху – вода пропитала ледяной панцирь речного тела с забытыми барками и остовами кораблей. И раскололся панцирь: небо с силой проснувшейся ласки завладело Невой, само превратилось в воду, и льдины смешались с облаками, а вдали – меж водой и небом растаял горизонт...
Ожившие воробьи, весело чирикая, хороводились на рынках, и чайки кружили над пристанями с резкими криками. Худосочные, еще зимние голуби гуркали и важно надували зобы, а когда сыпали им крошки – вдруг замирали, уставив на кормивших пристальный, округлый глаз существ удивительно иной природы...
Подышав немного у подъезда мартовским оттаивающим воздухом, коллежский асессор Штольман вошел в свою квартиру на чуть провинциальной, но очень удобной Надеждинской улице, - после изрядно суетного дня. Он проживал здесь уже три года, и это была его вторая квартира. Штольман снимал ее в аккуратном 4-х этажном доме у громогласного и добродушного архитектора Трухманова.
Дом, как и полагалось в петровской столице, сросся плечами в уходящую линию с другими доходными домами. Но сразу за углом шумел Невский, в паре кварталов – Фонтанка, а в десяти минутах езды от него – Николаевский вокзал. Это оказалось удобным для внезапных служебных вызовов. Якову пришелся по нраву и по карману неброский, респектабельный мирок этой улицы: оазис обеспеченного чиновничества, где можно было неделями не выезжать в центр, кормиться, одеваться и посещать приличное общество.
Модный шляпный магазин и ателье, артель печников, столярная мастерская, фруктовая и зеленная лавки – все здесь было под рукой. Окраинного вида доходные дома, простоватые, но уютные, не привлекавшие шумную золотую молодежь – это и было нужно 25-летнему следователю для спокойных вечеров. По вечерам он составлял свое Досье особо сложных дел, как привык с 68-го, и накопил немало приватной информации, потому и ценил уединение.
Штольман собирался переодеться и продолжить работу по делу, которым занимался с утра. Дело о растаявших чертежах (так он окрестил его про себя) выходило затейливым и на первый взгляд тупиковым. Он уже опросил всех возможных фигурантов странной истории, но острых подозрений у него ни к кому не возникло. «Весь день в разговорах», - досадливо пробормотал он.
Штольман снял зеленый полицейский мундир и достал из шкафа костюм, недавно сшитый у мьсе Дюпона – отлично пригнанный в талию пиджак с фрачными полами и брюки с острыми, как рапиры, стрелками. Он облачился в костюм и, поглядев на себя в зеркало, довольно улыбнулся. С некоторых пор Яков, не без некоторого самоудивления, полюбил одеваться внимательно и даже франтовато, и находил в этом изрядное удовольствие. Его и встречали по хорошей одежке уважительнее, и чувствовал он себя в ладно пригнанном костюме – уверенным, голос становился тверже, вопросы – чеканнее.
Теперь предстояло вернуться в «Институт инженеров путей сообщения» и еще раз поговорить с фигурантами дела.
От Сыскного отделения на Офицерской место происшествия находилось недалеко – и утром он добрался за пять минут. Когда Штольмана провели в пронзенную мартовскими лучами, грохочущую двухэтажную лабораторию – его просто поразило увиденное. Странные станки, гигантские маховые обода, пышущие паром прессы, – все здесь пыхтело и ходило ходуном. На стенах, против огромных арочных окон, висели схемы, схемы, и чертежи… С потолка свисали на канатх тяжелые грузы непонятного назначения, высоченная лестница вела куда-то под кровлю.
Довольно крупные модели мостов и паровозов с тщательно проработанными детальками громоздились на одном из длинных столов. Ему вдруг захотелось взять в руки модель и разглядеть все ее ладные шестеренки и ребрышки, но он не решился...
А всем здесь заправляли инженеры – степенные бородатые колдуны в синих мундирах. Они сминали, били и тянули материалы на странных станках, и что-то записывали в долгие таблицы.
Ах, значит, вот так строятся мосты? Штольман к 25-ти годам повидал уже немало: имел кой-какие награды и новый чин, и Путилин, не задумываясь, доверял ему самые сложные истории. Но… сколько раз он пролетал по петербургским мостам – то в погоне на пролетке, то бегом в перестрелке, то в засаде под ними искал улики или утопленника… И понятия не имел, как все это строится!
Инженеры, заметив его, остановили станки и в лаборатории повисла непривычная тишина… Бородатые мужи подошли к Штольману и окружили молчаливым кругом. Тот, что постарше, выступил вперед и произнес нервным баритоном:
- Профессор Белелюбский… Николай Аполлонович. А Вы-ы? Следователь, в котором мы так нуждаемся?
Яков отдал честь и представился, а затем нарочно потянул паузу. Лаборантские явно волновались, и он хотел понаблюдать. Однако никто не проронил ни слова.
Тогда Штольман попросил Николая Аполлоновича в точности показать: как именно выяснилась пропажа чертежей. Теперь из группы мужчин выступил скуластый, крутолобый и высокий юноша, который был страшно бледен. Запинаясь от волнения, он произнес:
- Александр Брандт, помощник профессора. Это я… обнаружил… - и побледнел еще больше.
- Покажите, как было дело, - попросил Штольман.
Перед ним открыли журнал, и он тоже увидел этот фокус: растворяющиеся на глазах расчеты и схемы мостовых опор в разрезе.
Через час, после уже привычно, четко организованного первого опроса он записал в блокноте следующее:
«Профессор Белелюбский Николай Аполлонович – переживает сильно. Хозяин журнала. Замешан?
Железнодорожный частный инженер Владимир Ильич Березин – не работал с журналом, взял несколько листов. Честен и подробен.
Хозяйственный инженер Константин Яковлевич Михайловский – не работал с журналом. Спокоен.
Подводный инженер Евгений Карлович Кнорре – работал с журналом всего 2 раза. Расстроен.
Студент Ланжерон – влюбленный жених, рассеян. Не трогал журнал.
Студент Агурский – кажется, чахоточный. Слабоват здоровьем. Не трогал журнал.
Студент Воздвиженский – предан науке, потомственный инженер. Не брал журнал. Возмущен.
Студент Александр Брандт – хранитель журнала. В обмороке, первый на подозрении».
- Вы нам поможете? Аай, юноша? – молитвенно сложив руки на груди, устремил к Штольману ореховый взор горюющий профессор.
- Сделаю все возможное, Николай Аполлонович. Господа, – обратился он к опрошенным мужам, – Прошу вас вернуться к своим делам, а я в течение этого дня еще поговорю с вами, если понадобится, в кабинете господина Белелюбского... Вы не против, Николай Аполлонович?
- Конечно, конечно, сударь! Как Вам будет удобно, господин следователь.
- Яков Платонович, – чуть склонил голову Штольман.
- Да-да, молодой человек. Да-да… – удрученный профессор даже не заметил поправки. – Прошу следовать за мной, – и направился к выходу.
Яков обернулся к бледному и потухшему лучшему студенту, стоявшему с покаянным лицом:
- Прошу Вас тотчас пройти с нами.
***
В профессорском кабинете, расположенном довольно далеко от лаборатории, стояло два огромных шкафа, набитых ватманами, книгами и тетрадями так туго, что даже стеклянные створки не закрывались... Сам кабинет был небольшой, но светлый, окнами выходил на проспект и создавал полное впечатление рабочей берлоги: в углу были составлены какие-то проволочные каркасы, кирпичи, и даже металлические гнутые стойки. Среди этого рабочего хаоса притаился, весь в чернильных пятнах, лакированный стол, гнувшийся под студенческими проектами.
Профессор усадил Штольмана в кресло, плюхнулся в такое же сам, а студент Брандт в чрезвычайном волнении стал расхаживать взад и вперед, и держать сбивчивую, но страстную речь:
– Понимаете, господин следователь! Самое странное в этой истории то, что я ни на минуту не расставался с журналом. В мои обязанности входит сверяться с выводами других инженеров и коррелировать их наработки с мыслями моего профессора… - тут он смутился и немного закашлялся. – Я хотел сказать, с данными Николая Аполлоновича. Я повсюду носил журнал с собой и только под моим присмотром кто-то мог заглянуть в него или позаимствовать несколько листов.
- А эти несколько листов… - Яков сверился с блокнотом. – Например, те, что взял господин Березин, они как… охраняются?
- Если кому-то нужны листы, то они в течение дня не покидают пределов лаборатории, клянусь Вам! Вечером я забираю их и вкладываю обратно, до следующей необходимости. Я всегда держу их в поле зрения!
- То есть, кроме всех ваших, больше никто не работает с журналом?
- Больше никто. Только господин профессор, я сам, и иногда инженеры, но не наши репетиторы.
Яков немного помолчал, и затем спросил:
- Скажите, Александр, а Вы много времени проводите в институте?
- Да практически все свое время. – расстроено взмахнул руками Брандт. – Я иногда так поздно засиживаюсь, что ухожу затемно, одним из последних. Дворник специально для меня открывает уже запертый подъезд.
- Понятно. – Яков черкнул в блокноте. – А позвольте полюбопытствовать: Вы живете с родителями, женаты ли?
- Нет, я живу с престарелой тетушкой, родители мои умерли. Жениться… да мне пока некогда, знаете ли... – он помедлил. – Видите ли, сейчас мы проектируем волжский мост! – при этих словах унывавший помощник так оживился, что даже щеки порозовели. – Ведь последние десять лет в отечестве непомерно выросла нужда в новых мостах – крепких, прочных, современных! Взамен прогнившим деревянным. И мы целыми месяцами заняты на этом революционном строительстве!
«Вот она, настоящая жена увлеченного инженера – стройка», – с улыбкой подумал Штольман.
- Что ж, благодарю Вас, господин Брандт.
- В-вы меня арестуете?... – снова начав запинаться, спросил Брандт.
- Нет, – усмехнулся Штольман. – пока я Вас отпускаю. Мне нужно еще многое прояснить.
Помощник профессора бросил на своего учителя мученический взор, но Белелюбский ободряюще кивнул ему, и тот вышел за дверь.
Так. – подумал Штольман. – Так. Студент, кажется, невероятно предан и даже немного влюблен в профессора. Непохоже, чтобы он посмел предать без последующего личного краха самое драгоценное, что поручил ему Белелюбский. Вряд ли он на это пойдет… Ишь, как горит делом. Сам же профессор напрямую страдает от этой потери, вон за сердце хватается… Нет, и не профессор. Тогда, кто?.... Вернее, кому это выгодно?
Второй, обязательный в его практике опрос тех же лиц ничего не дал. Инженеры вели себя расстроено, кто-то даже нервно, но в целом искренне. Они показали, что журнал никогда не оставался в их руках на продолжительное время, тем более без присмотра Брандта. Троица студентов вообще хлопала растерянными глазами и не могла сообщить ничего вразумительного. И всех лаборантских отличала какая-то общая ошарашенность происходящим. А это был – Яков уже знал по опыту – верный признак непричастности к преступлению. Сыграть такую ошарашенность очень трудно.
Было уже около четырех, и Штольман немного замучился. Они с Белелюбским уже поводили пустыми страницами над огнем свечи – ничего не прояснилось, и Штольман впал в глубокую задумчивость. Он сидел в кабинете профессора, вертел ситуацию и так, и эдак, и не мог поймать ничего подозрительного.
Все лаборанты горели искренней любовью к лаборатории и мостам, все горевали – каждый по-своему – по-настоящему. Штольман поймал себя на мысли, что эти люди, столь самозабвенно преданные своему делу, нравились ему.
Вряд ли такое сотворил кто-то из них… Чертежи исчезли, как при засвете фотографических пластин, и Штольман понимал, что в такой афере нужны были другие, не строительные, познания, а химические. Яков вдруг почуял какую-то далекую, неродившуюся догадку… Но она не далась, и с внезапным раздражением он поморщился.
Профессор все это время что-то писал, потом вставал из-за стола: к нему входили, советовались, выходили, а Яков все сидел, ослепший и погруженный в глубокую задумчивость. Так прошел час.
Кто знает этих ученых? Они ведь все как на подбор гении. Может, хватило кому-то времени похимичить со страницами? Но тогда это должен быть очень гениальный актер, - думал Яков, совсем не вспомнив о профессоре, который от тихой грусти приказал принести в кабинет чаю и бутербродов. – Актер, который притворялся так, что провел интуицию Штольмана? – тут Яков хмыкнул. – Но если такое допустить – гениальный актер среди гениальных строителей? – Штольман хмыкнул еще раз. – Нет, невозможно: либо актер, либо механик, ибо не скрестить ветер с плугом. По всему выходило, что был кто-то еще... Кто-то иной, не из лаборатории.
Яков повернулся к очень уставшему Белелюбскому и поразился серому цвету его добродушного лица. Жалеючи бедного гения, который не привык к тупикам сыскной работы, он как можно мягче спросил:
- Николай Аполлонович, а кто еще мог брать журнал? Вернее, кто еще мог видеть журнал?
- Никто! Никто! Только свои! – чуть не плача, отвечал профессор. – Мы бережем идеи очень добросовестно.
- Простите, я переформулирую вопрос: вспомните, где обычно бывает журнал? Представьте, что он человек? Куда он ходит?
- Аай… - вдруг озадачился профессор. – Так-ээ… у меня в запертом столе бывает, потом-ээ… в лаборатории на столах у инженеров под присмотром Брандта, а иногда Александр работает с ним в библиотеке.
- Вот оно! – вскричал Штольман и вскочил, и профессор подпрыгнул вместе с ним.
Библиотека! Вот место, где могли чужие каким-то образом контактировать с журналом.
- Срочно идемте в библиотеку, Николай Аполлонович!
Библиотека находилась в другом крыле, на втором этаже. И пройдя по гулким коридорам, где толпились серьезные студенты с ватманами, они вошли в уютную колонную залу.
Залу украшали по стенам блескучие стеллажи, меж объемистыми мраморными колоннами красовались бюсты ученых мужей. А в центре, проложенный длинными дорожками располагался ряд резных столов. На столах для общего развлечения были разложены подшивки известных журналов, подбитые в аккуратные, одинаковые переплеты с гербом института на обложках. Штольман разглядел несколько томов «Вестника Европы», несколько томов изрядно зачитанного журнала «Вокруг Света», а также «Железнодорожный курьер». И вездесущая «Нива» лежала здесь, и «Отечественные записки», и даже едкий сатирический журнал «Будильник».
- Вот-с, – рассеянно произнес Белелюбский, - мы развиваем кругозор студентов и выписываем лучшую периодику.
Как только они огляделись, откуда ни возьмись к ним подскочил презабавный старик, напоминавший картинку из книги сказок. Старика украшали набриолиненные смоляные усы с колечками на концах, совершенно седые роскошные брови на шишковатом лбу, и рыжеватые длинные баки. Он был сутул, с одышкой, и носил старинного покроя затертый мундир с позументом.
«Неужто еще елисаветинский?!», - изумился Штольман, но сохранил положенно невозмутимый и строгий вид.
- Ах, доброго здравьица, дражайший Николай Аполлонович! Как я рад! Как рад. – в непритворной радости закланялся профессору чудной старик, но незнакомца все же успел окинуть остреньким взглядом.
Николай Аполлонович с мягкой улыбкой накрыл горстью руки старика и объявил:
- У нас в гостях следователь Сыскного отделения господин Штольман. Господин сыщик помогает нам найти ценную пропажу. А это, – он обернулся к Якову, – наш библиотечный смотритель, давний сотрудник института и бессменный сторож Самсон Мстиславович.
Вот это имя! Штольман чуть не присвистнул. Впрочем, такому колоритному старику оно подходило. Яков улыбнулся и слегка поклонился чудному созданию.
- Мда-да… следователь-с, - библиотекарь еще раз остро взглянул, и завершил знакомство:
- Самсон Мстиславович Добронравов-Лихопой.
Белелюбский склонил голову к левому плечу, а Яков немножко поперхнулся.
- Водички? – живо предложил старик.
- Н-нет, благодарю Вас. Скажите… А кто выдает здесь книги?
- Мы-с, мы выдаем-с, больше некому…
-Вы-э… Лично выдаете, один?
- Нет-с, с помощником выдаем, с помощником.
- Кто такой? – мгновенно навострил нюх Штольман и его карандаш забегал по странице записной книжки.
- Так Эдгар! – воскликнул старик, – мой первейший помощник, служит у нас. Лучший помощник на моей памяти, верите ли? – и значительно возвысил палец. – Порядок знает и других приучает. Я ить стар уже стал, юноша… Один не справляюсь.
- Вы ему доверяете?… Эдгару? А, Самсон Мстиславович?
- Конееечно, как себе, юноша! Можно ли не доверять такому истому рыцарю науки. – Самсон повернулся к дальним стеллажам и негромко позвал. – Эдгар, поди-ка сюда! К тебе важный человек пришел.
Из-за стеллажа рысьей походкой вышел напружиненный достоинством кот, имевший размер хорошего терьера, с глазами, полными изумрудного огня, и великолепной дымчатой шерстью. Он стал напротив Якова и, не усаживаясь на ковре уютным калачиком, как сделал бы всякий кот, а наоборот, расставив мускулистые лапы, вытянул морду и внимательно понюхал воздух, так что даже усы зашевелились. И у библиотекаря тоже…
Штольман приподнял брови и смущенно выдохнул. Кажется, его разыграли. Но он не обиделся! Самсон Мстиславович, сморщив губы в улыбке, хитро взглянул на сыщика и остался доволен произведенным впечатлением.
***
На следующее утро Штольман приехал в институт и пошел на лекцию профессора Белелюбского. Он скромно примостился в среднем ряду амфитеатра, у дальнего края скамьи, и принялся разглядывать студентов. Удивленные лица юношей то и дело обращались к нему, но тут же отворачивались, не показывая никакого неожиданного поведения. Штольман приготовился сидеть долго.
Между тем, профессор читал превосходно! Казалось, будто бы он излагает не формулы и таблицы, а любовную поэму. Студенты довольно быстро перестали коситься на странного полицейского, заслушались и перестали обращать на Якова внимание. Из этих двух часов Штольман ничего не вынес ни из науки, ни в смысле сомнений или ярких догадок. Но жар увлеченных наукой сердец ему передался!
В коридоре прозвенел колокольчик, и студенты принялись шумно покидать скамьи. Яков тоже поднялся, и вздохнул.
Вчера в библиотеке он снова услышал, уже из уст чудного смотрителя, что журналом не пользовался никто, кроме Брандта или тех же лаборантских под приглядом Брандта… А чужих в библиотеке Самсон никогда не видел. Это был какой-то замкнутый круг, и сегодня он замкнулся в нулевой точке.
Яков вышел в коридор и подошел к окну, выходившему на внутренний двор института. Нервно побарабанил пальцами по стеклу, соображая, что же ему теперь предпринять. Справа от него, облюбовав соседний подоконник, над ворохом учебников оживленно разговаривала группка студентов:
- Как же мне успеть дочертить проект? Ай-яй-яй, Белелюбский не похвалит…
- А я совсем не сделал лабораторную. И голова трещит! Сухоумов, дайте переписать выкладки?
- Конечно, Гронский, я дам Вам переписать выкладки, но только после того, как Вы произведете вкладку! Сегодня мы едем кутить к Палкину!
И от избытка жизни, ничуть не стесняясь сыщика, они дружно захохотали.
Яков улыбнулся. Переписать выкладки... Он припомнил себя в их возрасте. Жил он тогда в своей первой комнатке у путейщика Устина Феропонтовича в Коломне, и путейщик в тот год был его семьей. По вечерам они вместе тянули сладкий чай в гостиной, сидя за некрашеным столом. Яков постигал премудрости уголовного кодекса, а Феропонтович переписывал бумаги.… переписывал… бумаги!
Вот оно! Ведь бумаги должен был кто-то переписывать?! Он видел в журнале как сырые наброски, так и мастерски отрисованные законченные чертежи. Самому профессору некогда было заниматься черчением, это очевидно, вон сколько помощников для мелких дел завел, журнал носил и то не сам. Инженеры и репетиторы, сыщик уже знал, тоже не занимались чертежной работой, а были заняты по горло изысканиями. Отрисовывать начисто мысли профессора должен был… Кто? Правильно! Переписчик. Кто-то незаметный, но очень необходимый, кто-то, кому доверяли.
Чернильные души, коих в столице водилось во множестве, годами помогали начальникам, чиновникам, попечительским советам, и ученым людям с бесконечной бумажной волокитой. Без них не обходилось ни одно учреждение, ни один кабинет, и ни одно дело!
- Спасибо! – схватив блокнот и фуражку, крикнул он студентам, чем изрядно повеселил компанию, и она взорвалась новым приступом смеха.
Штольман почти бегом домчался до кабинета Белелюбского и в пять минут выяснил, что, действительно, в институте много лет, в специальной комнате или дома по ночам работали два чертежника: Билибякин и Ослонков. Они же служили переписчиками разных бумаг. Однако, к их незаметному труду настолько привыкли, что никому: ни профессору, ни лаборантам, ни студентам даже и в голову не пришло упомянуть их. О них никто не вспомнил!
- Где они теперь? В чертежной?
- Н-нет, последнюю неделю они по домам работают. Мы дали им несрочное задание – отрисовать студенческие мосты к будущей сессии…
- Найдите мне их адреса, срочно! – почуяв, наконец, перспективу, азартно воскликнул Яков Платонович.
- Вы думаете, что?… - учащенно дыша и покашливая, Николай Аполлонович бросился к бумагам. Он нашел нужное и протянул Штольману.
- Что Вы можете рассказать о них, Николай Аполлонович? – быстро спросил Штольман.
И профессор поведал, что переписчики Билибякин и Ослонков служат при институте уже давно, и оба на хорошем счету. Они помогали Белелюбскому и в старой лаборатории, еще совмещенной с химической, и теперь вот в новой. Билибякин, тот, что постарше, иногда запивает…
- Но что делать? – вопросил Якова профессор, простирая к нему ученые ладони. - Хороших чертежников непросто найти, так мы терпим. А Ослонков служит ровно, без срывов. Более о них ничего не знаю.
- Они работали в библиотеке вместе с Брандтом над Вашим журналом? Он пользовался их услугами? – спросил Яков уже от двери.
- Да. – растерянно ответил профессор. – Да-да. Мы с Александром отдавали им листы из журнала в переписку… Я сам отдавал, и не следил. Ведь они не разбираются в строительстве, чего же опасаться? И, наверное, они могли…
***
По дороге к Ослонкову, который жил где-то на Большой Подъяческой – там, где селились мелкие мастеровые, Яков подумал: вот она! Мысль, которая ускользнула от него вчера: в химической лаборатории подозреваемые, оба переписчика, действительно работали. А шутка с исчезающими чернилами могла быть исполнена лишь тем, кто хотя бы поверхностно знаком с химией.
Переписчики пропускали через себя километры научной информации. И этому фокусу с растворением чернил они могли научиться за годы копирования, и к тому же они имели свободный доступ в любой кабинет.
Вопрос был в том: кто из них? Или оба?
Яков постучал в нужную квартиру в одном из крохотных флигелей Подъяческой. Открыл ему сам хозяин – маленький и щуплый, насквозь прокуренный чертежник Ослонков.
В левой руке он держал остро отточенный карандаш, а за правым ухом средь редкого пуха волос торчала линейка. На его плечах повисла пыльным крылом старая шаль, и вид он имел зябкий и больной.
- Чем обязан? – бесцветным голосом спросил он Штольмана, когда следователь настойчиво напросился в квартиру – для разговора.
Яков, не объясняя цели прихода, стал задавать дежурные вопросы, а сам медленно прохаживался, внимательно разглядывая жилище. Комната с тремя большими окнами была прекрасно освещена, но обстановка казалась крайне бедной, хотя и опрятной.
Огромный кульман на деревянной ноге располагался у бокового окна и занимал главное место в этом мирке. Поодаль ютилась заправленная кушетка, а у слепой стены, занавешенной ковром с прикнопленными чертежами, стояло массивное бюро, имевшее рабочий вид. Над бюро висело несколько полок с аккуратно расставленными книгами.
Яков, под беспокойным взглядом подслеповатых глаз хозяина подошел и заинтересованно осмотрел ровные линейки книг. Были там среди прочего «Чертежная азбука», «Наука чисел», и «Евклидова геометрия». Никаких легкомысленных романов или поэзии. Впрочем, стояло несколько томов журналов, видимо, взятых из институтской библиотеки: «Вокруг света, 1866 г.», «Вестник Европы, 1870 г.», «Будильник 1874 г.»… - мельком отметил Яков. Книг по химии – тоже не было.
- Вы химией увлекаетесь, господин Ослонков? – как можно внезапнее спросил Штольман, резко развернувшись к чертежнику. Но не застал его врасплох. Ослонков заморгал серыми ресницами и просипел:
- Нет, господин следователь. На что мне химия? Работы навалом.
- Вы ведь когда-то работали в химической лаборатории института?
- Работал когда-то, звали… Теперь вот у строителей служу. Я, Ваше благородие, ничего не понимаю в формулах и ретортах… Уж не обессудьте.
Яков внутренне собрался.
- Из строительной лаборатории пропали ценные чертежи профессора Белелюбского. Как бы это сказать… растворились на бумаге. Кто мог провернуть такую шутку – не знаете?
- Хм, - усмехнулся Ослонков. – Кто мог бы – не ведаю… Впрочем, чертежник Билибякин, знаете ли, любит нехорошо пошутить, да-с.
- Что вы имеете в виду? – насторожился Штольман.
- Как Вам сказать: он в стесненных средствах пребывает, семья у него большая, деньги занимает часто. А расплачиваться нечем. Однажды он мне фальшивый кредитный билет подсунул, хорошо отрисовал, признаю. Да только меня не проведешь! Накричал я на него и прогнал.
- Так стало быть, вы утверждаете, что Билибякин подделками ассигнаций промышляет?
- Стало быть, утверждаю. - сипло выдохнул Ослонков. – Да Вы сами, Ваше благородие, у него расспросите. А еще спросите, что он по ночам в институте делает, ась? Сторож наш, Савельич, его ведь видел!
Штольман быстрой рысью рванул к Билибякину в Никольский переулок, благо было недалеко. И первый, и второй чертежники квартировали близ института в Адмиралтейском районе, и поиск жилища Билибякина не занял более получаса.
Когда он громко постучал в квартиру в третьем этаже грязноватого и сырого подъезда «Доступных меблированных комнат» - за дверью заревел ребенок. Дверь открыла испуганная молодая женщина с заплаканными глазами, к ее юбке жалось два белоголовых мальчугана, а на руках захлебывался плачем младенец.
Штольман спросил:
- Госпожа Билибякина? Ваш муж дома?
На его голос из глубины жилища немедля вышел высокий, осанистый мужчина в простой исподней рубахе и армейских брюках, и Штольман сразу отметил в нем те почти неуловимые черты аристократа, которые безошибочно определяли представителей привилегированного сословия: врожденно-изысканная манера держать голову, хорошая осанка, плавные движения рук. Хотя и побила чертежника жизнь: на лице следы запоев, волосы поредели, но Билибякин все еще выделялся из толпы безликих и забитых чернильных душ. Как занесло его в переписчики?
Билибякин провел следователя в кабинет (да, в этой скромной квартирке все же был кабинет) и просверлил его встревоженным взглядом. Штольман без обиняков заявил:
- Господин Билибякин, вы подозреваетесь в хищении важных документов профессора Белелюбского, а также подделке кредитных ассигнаций. Я вынужден вас арестовать.
- Что? Да как Вы смеете?
- Смею, господин Билибякин. Я веду расследование и призываю вас не чинить препятствий.
Чертежник как-то внезапно сник, медленно подошел к топчану и сел, сгорбившись почти до земли и опустив бессильные руки.
- Видите ли, господин следователь... я… потомок знатного рода. Соколинский моя фамилия, а Билибякина – это фамилия жены, я ее на себя записал.
- Скрываетесь?
- Можно и так сказать… Разорился мой отец лет десять назад, а жили мы тогда в Могилеве. Я крепко играл всегда – не слишком успешно проматывал семейные деньги. И надо сказать, когда это несчастие случилось – поехал я в столицу. Решил: а-а, была-не была! Попробую отыграть у судьбы хоть что-то, все одно пропадать. Но не выходило у меня ничего, кроме позора на головы бедных родителей. Я уж совсем погибать стал, как встретилась мне моя Маша, – и он поднял затуманенное слезами лицо, - агнец мой кроткий, голубка терпеливая. Взяла с меня обещание – бросить игру, если мы поженимся. Вот с тех пор я и завязал. Выучился чертежничать – сноровка у меня к этому обнаружилась, пытаюсь семью кормить… Только трудно порой бывает.
- Вы ассигнации подделывали? Пытались пустить в оборот? – строго спросил его Штольман, стараясь не поддаваться сочувствию.
- Каюсь, пытался. Безденежье измучило. – сокрушенно ответил Билибякин. – Но лишь однажды! – он устремил на сыщика умоляющий взор . – Так совесть меня замучила, что бросил я эту затею. И Ослонков меня прогнал… будто мало мне позора. - пробормотал он и снова повесил голову.
- Ослонков показывает, что Вы по ночам оставались в институте. Он утверждает, что дворник Вас видел. Тогда Вы и воровали журнал? Признайтесь, тогда и химичили с чернилами?
- Что Вы! – Билибякин вскочил и Штольман невольно напрягся, чертежник был высоким. – Я никогда не пятнал себя воровством! И не бываю я по ночам в институте. У меня дети малые, жена одна бьется. Я к ним после службы всегда спешу. Спросите Савельича – он врать не станет!
- Я спрошу Савельича, и если выяснится, что Вы лжете, я вынужден буду арестовать Вас. – с горечью проговорил Штольман, особо упирая на «вынужден».
Он вышел в переулок из затхлого подъезда, прошелся пешком до набережной Фонтанки, с облегчением вдыхая ласковый, пригретый воздух. Было три часа пополудни и, кажется, он выходил в этом деле на завершающий круг. Ему оставалось получить подтверждение свидетеля, и он заберет Билибякина в участок.
Штольман еще минуту постоял и посмотрел на сверкающую воду, разлитую по панцирю канала, в которой голубели стеклышки небесной лазури… На мокрый гранит ее берегов, от которых поднимался тонкий пар... На праздно или деловито снующих горожан. Потом кивнул двум прелестным дамам в огромных шляпах с перьями, и – с кротким вздохом сел в пролетку.
Он подъехал к институту и сразу нашел Савельича. Тот отдыхал в дворницкой на первом этаже и ничуть не удивился, когда Яков принялся его расспрашивать. Видимо, Савельич был в курсе прискорбного события.
- Никак нет, Вашскобродие! Не бывает Билибякин по ночам, наоборот – всегда домой спешит. А вот ентот, как ево… - он на секунду задумался. – Ослонков! Тот часто задерживается в книжной палате дотемна, точно. Я им с рейпетитиром Ляксандром завсегда подъезд открываю.
- Тааак. – заключил Штольман и раздул гневные ноздри. – Ослонков, значит.
- А Вы, Вашскобродие, у Самсона спросите! – прищурился Савельич. – Самсон справно палатой заведует: заносит всех в табель. Хто приходил, хто уходил, когда – все-оо у него записано. Это он по старой своей армейской привычке дневалит, – дворник рассмеялся в усы. – Все никак Отечественную не забудет, старый хрыч. – и вновь закудахтал добродушным смехом.
Это сколько ж библиотекарю лет? – снова подумал Штольман, но расспрашивать не стал – некогда!
Он пробежал знакомыми уже коридорами в библиотеку, и обнаружил, что она заперта. И Самсона нигде не было. Нашел он старого чудака в институтском лазарете, бледным и в испарине.
- Ох-ох-ох, молодой человек, здоровье мое не позволяет совсем… Вот, возьмите ключ, - он протянул сухонькую трясущуюся руку, – я Вам всецело доверяю. Отомкните сами, посмотрите табель на моем столе. Если что, Эдгар Вам поможет.
Штольман отпер библиотеку, вошел в залу и уже успел затворить дверь, когда с той стороны настойчиво поскреблись. Яков непонимающе высунулся и, повертев головой, увидал под ногами Эдгара: кот энергично выписывал дуги хвостом, и его пристальные изумрудные глазищи полыхали. Штольман вопросительно замер.
- Окгой мнеееу. - негромко, но внятно сказал кот.
- Что? - растерялся Яков Платонович. - Что... что? сделать?
- Оккрой мнееееуууу!!! - утробно взвыл кот с яростным призывом, и завороженный Штольман, словно бы под гипнозом, повиновался.
Кот нырнул в приоткрытую дверь, рысью пробежал до столов, вспрыгнул на столешницу, и уселся под лампой – ровно поверх кипы старых журналов. Застыв изваянием, он вперил в сыщика зовущий магнетический взгляд.
Повинуясь странному приказу, Яков медленно приблизился к столу и посмотрел туда, куда дымчатый библиотекарь примостил свою пушистую красу. Это была подшивка «Вокруг света» за 1866 год, но вопреки принятым здесь правилам – без обложки. Вспышка внезапной догадки озарила последние несуразности!
«Спасибо!», – крикнул он коту и через секунду оказался на выходе. Но затворив дверь, он услышал требовательное:
- А меняу?
Сыщик приоткрыл створку. Кот сидел под дверью, уставясь на него округлыми огнями изумрудных глаз.
- Ах да, прости, Эдгар, – совсем-совсем не удивляясь, ответил Штольман.
Он уважительно приоткрыл дверь, и кот с царственной грацией проследовал наружу. И так же неспешно поплыл по коридору, покачивая в такт прекрасным хвостом. Когда Штольман запер библиотеку и через миг посмотрел коту вслед – Эдгара нигде не было.
…Ослонков не сразу, ой не сразу открыл дверь, и то после того, как Штольман пригрозил вломиться к нему с околоточным и городовыми. Чуть наддав плечом, Яков бросился в комнату – прямо к бюро у ковра, завешенного чертежами. Но Ослонков опередил его. С разъяренным видом, удивительным в этом тщедушном теле, чертежник стал спиной к полкам, словно бы закрывая их от неумолимого следователя. За его птичьим плечом Яков увидел ее – обложку журнала «Вокруг света 1866 г.».
Штольман собрался уже вступить в неравную для чертежника борьбу, но увидел, что кулачки Ослонкова сжались, и в одном из них блеснула тяжелая чернильница.
- Ни с места! – выкрикнул Штольман. – Я буду стрелять! – и потянулся к кобуре верного Смит-Вессона.
Но он опоздал. Чернильница – граненым булыжником – расплескав по воздуху синие кляксы, просвистела надо лбом. В висок плеснуло. Инстинктивно Яков дернул головой, и снаряд пронесся мимо, чиркнув короткую височную прядь…
***
Через пару часов Яков стоял у подъезда на Офицерской и блаженно щурился на мартовское солнце. Оно медленно опускалось за плечистые здания каменного города, благословляя перламутровые влажные стены прощальной улыбкой. Повсюду пела капель. И запах тающего снега, острый, подзабытый, блаженно бередил грудь. Иван Дмитрич стоял рядом, он тоже рад был продышаться.
- Что же там случилось, Яков Платонович, Вы объясните мне?
- Конечно, Иван Дмитрич.
Штольман раскрыл журнал, который держал при себе, и показал Путилину содержимое. Под типовой обложкой с гербом института и надписью «Вокруг света 1866 г.» находилась вся подшивка чертежей, мыслей и таблиц Белелюбского – в самом что ни на есть явном и никуда не исчезающем виде.
- Чертежник Ослонков полгода брал листы из журнала профессора, и прямо в библиотеке подменял их точными копиями, делая вид, будто работает над заданиями. За ним никто не следил. А писал он своими собственными чернилами, которые приносил с собой и которые исчезают, когда на них попадает свет. Этому фокусу он научился давно, еще в химической лаборатории. Умен оказался переписчик.
- Зачем же он все это провернул? – озадаченно спросил Путилин.
- Знаете, Иван Дмитриевич, - задумчиво отвечал Штольман, - нетрудно понять сальери, когда рядом столько моцартов… Говорит, отомстить хотел: за незаметность свою, за то, что не помнили его…
Он поднял лицо к небу и сверкнувшая крупная капля шлепнула его по лбу. И Штольман легонько рассмеялся.
- Приходите сегодня к нам, Яков. – коротко вздохнув, сказал Путилин. – Татьяна Константиновна будет рада. Обещала пирог испечь, со стерлядкою! – он улыбнулся и, хлопнув сыщика по плечу, пошел прочь по весенней улице.
- Непременно, Иван Дмитрич! – крикнул ему вслед Штольман. – Непременно приду.
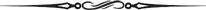
Содержание


 -->
-->

