
(7 серия)
***
На третий день после столь тяжкого для него письма, еще пребывая в подавленном расположении духа, Яков Платонович Штольман столкнулся посреди раскисшей от дождя улицы Затонска с бывшей петербургской любовницей…
В этот час он возвращался со службы. Уже смеркалось, и ранние сумерки — слоистые, густые –туманились по улицам и закоулкам городка, милосердно пряча жирную грязь проезжего пути, что тускло поблескивала под шкворчащими, масляными плошками фонарей.
Золотистые окошечки по одному зажигались в глубине садов и палисадников, тут и там присоединяясь к рукотворному свету человеческих жилищ, и казалось, что темнеющий город, как пепельную печную заслонку, прожигают одна за одной огнистые дырочки…
Октябрьские звезды, еще крупные, реснитчатые, помаргивали в облаках — откуда-то сверху — земным огням, и эта дружелюбная перекличка небесных и земных светил волшебно действовала на озябших прохожих, успокаивая нервы и настраивая на приглушенный лад, будто вблизи подслушанного разговора…
Яков обходил щедро разлитые на улицах лужи, останавливался и пропускал экипажи, стараясь не вязнуть в грязи; он то и дело перескакивал со слеги на слегу, проброшенные вместо тротуаров чьею-то доброй рукой. Затонск — не Петербург, закованный в гранит: городишко не мог похвастаться добротными мостовыми, и каменный панцирь покрывал совсем небольшое число центральных улиц, остальные же пешеходные артерии города довольствовались истинным натурализмом природы. Летняя солома давно истлела и теперь ничем не прикрытая сиротливость осенней земли, ее оголенное смиренное убожество аккомпанировало минорному настроению сыщика. Да еще барабанил по котелку неостановимый назойливый дождик.
Яков шел под моросью и думал о том, что все, что случилось три дня назад — к лучшему. Ну какое еще сватовство, какая оседлость в его положении, право? С его-то беспокойной службой и неясным будущим? Он нафантазировал себе прекрасную мечту о доме, недостижимую, как сияющий свет голубой заводи в его снах, тогда как сама жизнь противилась подобному ходу вещей. Тот поцелуй, оборванный бестактным приходом Коробейникова (который виделся с расстояния и правильным, и уместным), и ее письмо — красноречивые свидетели несовпадения их жизней, как никогда не совпадут свет земной и небесный. Она, несомненно, сияет небесным светом, а он — только земным, слишком земным… нерадостным и безобразно-тяжелым… Смеет ли он эту нежную девочку, не знавшую печалей, тянуть в свой узловатый мир, в свой непокой?.. Он убедился, что такие порывы очень плохо сочетаются с полицейскою работой. К тому же, он ожидает сигнала от Варфоломеева, который может отозвать его в столицу в любой день, и тогда он уедет из Затонска навсегда…
Не стоило, право, не стоило так увлекаться.
Дворники разжигали в подорожных урнах ночные кострища для бедняков, и вдоль заборов слоились запахи терпкого дыма и сгнившей листвы. На перекрестках гужевались извозчики – сдвигали кнутовищами шапки набок и, перекрестясь вместо закуски, ахали по шкалику: «Эх-ма-а! Хар-рашо-о!». Усталые их лошади, стоя в упряжках, мотали головами и тихонько ржали, просясь в теплые стойла. Вот уже последние лавочники, звеня колокольчиками, закрывали до завтра свои гостеприимные двери. А осенний пеший путь домой все не кончался, и Штольман ускорил шаг. Хотелось к огню.
— Якоб!.. — раздалось ему в спину негромкое восклицание, и Штольман, не успев подумать, быстро обернулся. Застывшая на ветру чуткой гончей, порозовевшая от холода Нина Нежинская — в изящном парчовом полушубке и шапочке с павлиньим глазком, вся осыпанная серебром дождевых брызг, призывно улыбалась ему.
Испытав секундное замешательство, Яков Платонович подумал, что у госпожи фрейлины феноменальный нюх на штольмановы неприятности — как у лисицы… Он досадливо присмотрелся прищуренным глазом и нелюбезно спросил:
— Вы ли это, госпожа фрейлина Ее Величества? Не может быть.
Нина склонила к плечу точеную головку, отчего стала похожа на изящную камею, врезанную в дымный вечер октября, и улыбнулась ему мягко, укоризненно:
— Разве ты не рад, Якоб… А я так спешила добраться к ночи…
— Спешила, зачем? — не желая, он выдал больше, чем хотел: слова его были полны неподдельной едкой обиды.
— Чтобы объясниться, Якоб!.. Я бросилась тебя искать, едва сошла с пролетки. Ты не отвечал на мои письма… а я… я так виновата перед тобой. — она перевела дух и опустила голову. Потом подняла лицо:
— Прошу тебя, пожалуйста, поговори со мной. Не исчезай.
Ее глаза, полные кротости и раскаяния, наливались слезами. Они призывали и умоляли. Было неловко вот так стоять и объясняться посреди улицы, и Штольман поинтересовался:
— Где Вы остановились?
— В гостинице Тригорьева, здесь недале…
— Я знаю, где она, — перебил ее Яков, протянул ей руку, и они чинно зашагали под дождем по затонским хлябям, пока не свернули за угол: и вот уже представительный швейцар открывает перед ними двери лучшей гостиницы города.
В вестибюле Нина отмерила легкий кивок портье у конторки, он в ответ выдал преувеличенно подобострастный поклон и ключ, и пара поднялась по узкой лестнице на второй этаж — в ее номер.
— Я так долго тебя искала. — произнесла Нина интимно, откидывая входную портьеру, и легонько коснулась виском его плеча.
По давно въевшейся сыщицкой привычке Яков оглядел переднюю комнату, и заметил, что еще неразобранный сундук и дорожная сумка брошены прямо в центре, однако на столе в хрустальной пепельнице красуется знакомый ему мундштук с выкуренной до донышка египетской папиросой, и стоят два узких бокала с недопитым вином. В комнате было душно и накурено, портьеры раздвинуты — все говорило о том, что Нежинская не сразу отправилась искать его по Затонску, а сидела здесь с кем-то около часа… Какие у нее могут быть знакомые в Затонске?
Нина сняла шапочку, стянула перчатки, и нежно прижала холодные пальцы к его щекам:
— У меня есть время до завтра. Я вырвалась на эту ночь. Приехала только ради тебя.
Он крепким предупреждающим жестом зажал ее ладони в своих перчатках, и отстранил лицо:
— Нина, я не ждал тебя. Зачем ты приехала?
— Я надеялась, ты побудешь со мной… Хотя бы ненадолго.
Она ласковым, ищущим взглядом просила приюта в его глазах. Штольман безнадежно выдохнул и опустил ее руки, не желая ничем отвечать ей: ни ссорой, ни миром — он все еще не был к этому готов.
— Ты еще сердишься? Ревнуешь к князю? Не сердись, Якоб! — засыпала она его воркующим, серебристым каскадом слов.
Она так добросердечно, так горячо заботилась о его самолюбии, как не заботилась никогда за все время их связи… Настороженное чувство неправды, вопившее о подвохе, и внезапность ее приезда в его ссылку, где он только-только обвыкся, остро обожгли душу. Она снова приручала его. И Штольман все-таки разозлился.
Пусть так и думает. Пусть думает, что ревность мешает ему говорить с ней. Ревность, а не опись чемоданчика Негоша в ее шкатулке. Не тайные ее дела с Разумовским у него за спиной, не ее отстраненное равнодушие к его дуэльному ранению…
Он молча и выразительно выгнул ноздри, потом подошел к двери, и на пороге — в полуобороте произнес:
— Уезжайте, госпожа Нежинская… Честь имею.
— Я приеду через неделю! — с невольным отчаянием выкрикнула она, — и стану ждать тебя здесь! Снова!
Он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. И в пустом полуосвещенном коридоре с некоторой досадой поймал себя на чувстве малодушного облегчения — оттого, что удалось избежать сцены. А еще на том, что внезапный дальний приезд и явное отчаяние фрейлины польстили его самолюбию: гораздо более, чем он желал…
***
В последующие дни Яков Платонович с Коробейниковым неостановимо занимались мелкими кражами, да соседскими сварами, а более серьезных происшествий в Затонске не происходило. Неделя свершалась так:
Во вторник утром в участок заехал доктор Милц и попросил помочь настоятелю больничной церковки батюшке Варсонофию найти пропавшее пять дней назад облачение.
Уже к обеду спорые сыщики сыскали и вернули седенькому, нежноглазому старичку стянутый из строжки подризник: белое, довольно поношенное, поповское платье стащил мальчишка-певчий для предприятия собственного сочинения — пугать по ночам буйных домашних, когда те принимались крепко выпивать.
Для вразумления отца и дядей, и для укрощения семейной пагубы он надевал истертую рубаху и, становясь в темных дверях избы с огнем в руке, гудел басом: «Яааа Ильяааа-громовержеееец! По ваши души пришеееед, нечестивцыыыы! В ад изыдете, пропойцыыыы!».
Буйные мужики с пьяных глаз страшно пугались, будто бы завидев привидение, и тем усмирялись…
Штольман невольно улыбнулся смекалке мальчишки, который даром, что макушкою чуть повыше стола, но басить умел, как медведь-шатун весною. И сыщик отдал его — вместе с подризником — в прощающе-кроткие руки отца Варсонофия: на последующее воспитание.
Вечером того же дня, благодаря штольмановой догадливости, а всего более — быстрым ногам Антона Андреича, сыщики вернули почтенному семейству господ Аникеевых полдюжины бутылок редкого вина, которые стибрил у них домашний кучер. «Для вечерних посиделок, — плакался тот покаянно, — невесту хотел сыскать».
— Принимайте ваше зелие, почти целое! — горделиво отчитался Коробейников, и хозяева, расплываясь в улыбках, благодарили. Штольман распек кучера, и хотел было посадить его в холодную — на недельку, но сердечные Аникеевы попросили о снисхождении, и Яков Платонович назначил виновнику чувствительный штраф.
Тем и остался доволен…
В среду в их околотке было весело. Прибежал чиновник городской управы Ветошкин и сообщил престранное: из подворотни городской канцелярии пропал гранитный камень-отбойник, что лежал на въезде для ограничения хода колясок. Бог весть, кому понадобилась этакая тяжесть, но, когда хватились и опросили работавших на постройке сарая артельщиков, выяснилось, что мастеровой Антипка Чувилин, жуликоватый веселый парень с желтыми растрепанными волосьями и бородой, намедни прихватил камень и, закинув его в артельную телегу, увез в слободу.
Антипку нашли на пустыре, стреляющим по воробьям, отбойник — посередине стола в его домишке. Ворочать каменюгу оказалось не так-то просто (Штольман с Коробейниковым, ухая, вдвоем затащили его в возок). Удивленный до невозможности дотошностью властей мастеровой путанно объяснялся:
— Я ж ничаво худого не надумывал, а токма вот пошто лежит добро на дороге и пропадает зря? То вот для уквашения капусты оно всё лучше сгодится?
Никакой капусты в его хозяйстве сыщики не обнаружили. В качестве назидания они усадили Антипку в пролетку и, привезя во двор пострадавшей канцелярии, заставили водрузить отбойник на место…
В четверг трактирный приказчик по хозяйственной части Филимон Тычицкий не заплатил поденщицам-прачкам за гору перестиранных скатертей и разгневанные женщины излупили его вальками. Пострадавший до крови распорядитель пришел сам, грязно ругался в участке, грозил прачкам со чадами голодною смертью, и никак не шел на мировую. Женщины визгливо кричали и тянули к его ушам красные растресканные кулаки, и только присутствие стражей останавливало их от расправы…
Штольман провозился с ними полдня и ничего не добился в безумном гвалте. Пришлось выступить в старой проверенной прокрустовой роли: он пообещал посадить всю компанию на недельку в клетку — на одну воду, отчего прачки гневно и хищно закраснелись, а приказчик, напротив, сильно побледнел, и тут же трясущимися губами поклялся уплатить всё без остатка. Женщины немного смягчились в тяжкой обиде, и подали ему платок — утереть разбитую губу… Штольман вздохнул с облегчением и отправил их «с Богом восвояси» — в трактир, а с ними околоточного.
И виньеткой на торте недельных хлопот случилось в пятницу презабавное дело! С утра Яков Платонович, не удивляясь затонскому своеобразию народных беззаконий, сидел за столом и протоколировал дознание о том, как два близких друга и соседа с Колесной улицы: мещанин Колобков и купчик Бобров поссорились насмерть — из-за того, что один обозвал другого гусаком.
Страшно обиженный Колобков в отместку, «с особенным намерением оскорбить недавнего приятеля» (как было записано со слов Боброва твердым почерком Якова), построил прямо у калитки общего заборчика гусиный загон. Тою же ночью купец Бобров прокрался с пилою в руке и подпилил столбы загончика, отчего тот упал со страшным треском, и передавил всю птицу.
Гражданин Колобков в гневе пообещал подпалить соседа. И далеко бы могла зайти эта опасная свара, если бы Штольман под встревоженные афоризмы Коробейникова не пригрозил неуживчивым соседям судом и удалением из городской черты на выселки — ввиду «повышенной их пожароопасности» (и эту фиоритуру все также бестрепетно записало в рапорт штольманово перо). Впечатленные угрозой соседи струхнули и спешно ударили по рукам! Яков негромко рассмеялся им в спины: «не мил и свет, когда друга нет», и с хрустом разогнул спину.
…Осенью часто бывает, что люди, как звери, уходят в себя, замыкаются в тяжких мыслях, а Штольман с каждым нелепым происшествием будто просыпался: и на душе становилось веселее, и дела спорились! Голова просветлялась, и на сердце нисходило облегчение. Он вспомнил, как мечтал в первый день здесь, что работа, любая, какая бы ни была, поможет ему пережить удары судьбы, полученные в столице. Вот и теперь так выходило, что бытовые ссоры обывателей и их смешные кражи отвлекают его от недавнего расстройства…
Так размышлял он, возвращаясь поздним часом домой после недельной службы. И вдруг вспомнил, что у него закончились свечи: свернул в проулок к ближайшей мелочной лавочке. Однако уже на подходе к крыльцу Якова Платоновича поразила странная несуразность: дверь лавки была распахнута настежь, а в незадернутых окнах было совершенно темно. Штольман нахмурился.
Пока он присматривался, от фонарного столба юркой тенью отделился однорукий мальчишка лет девяти в наброшенной на плечо взрослой шинельке, сплошь увешанной солдатскими медалями. «Солдатский сын, что ли?», — промелькнуло в голове у Штольмана. Между тем мальчишка выпучил круглые, как у бычка, глаза и, не слишком уверенно грозя ружейным шомполом, ломающимся голоском просипел:
— Ходи мимо, дяденька. Целее будешь.
Штольман молча вынул револьвер, быстрым движением выхватил железный прут из рук ребенка, и ткнул дулом ему в бочок:
— Полиция. А теперь отвечай: кто в лавке?
— Митька… и Афонька… — просипел солдатёнок, и тут же выложил дядьке с пистолетом, что втроем они хотели разжиться сахарной головой и ситными хлебцами, и потому сейчас двое — там, внутри.
— А ты, значит…
— А я на стрёмках.
— Все, окончились твои стрёмки. — убирая пистолет и направляя мальчишку крепкою рукою к крыльцу, сообщил сыщик. И уточнил, — ты чей?
— Они — Пронькины, братья. А я Акимов.
— Пронькины, на выход! — крикнул Яков Платонович. Через минуту из-за косяка высунулись две испуганные мордахи, с размазанными на лицах следами объедения. Чтобы пацанву не сдуло в тот же миг, Штольман быстро сообщил:
— Кто сбежит — того догонят городовые, а я уж посвищу… А будете рысить по лавкам — всех посажу.
— Ой не на-а-адо, дяденька, городовы-ы-ых! А коли поса-а-адите, нас тятька вы-ы-ыпорет! Не на-а-адо! — заголосили Пронькины.
— Вы их вместе посадите. А то им нельзя отдельно. — веско сказал Акимов, и невозмутимо поглядел в глаза сыщику.
Штольман проглотил нежданный ироничный смешок, и заверил всю банду:
— Если будете отпираться, то рассажу всех по-отдельности, так и знайте… Так. Откуда узнали, что лавочника не будет?
— Так слыхали надысь на площади, что ево не будет. Кучера болтали… — отвечали вразнобой ребятишки.
— А полезли зачем? Неужели совсем невмоготу? — спросил Штольман больше для проформы.
— Жрать охота. Второй день не жрамши. — сообщил Акимов, и подтянул болтающиеся штаны.
— Значит так, сейчас живо по домам! А завтра придете в участок — прямо ко мне, и я решу, что с вами дальше делать. Смотрите, не явитесь — я вас найду, и мало тогда не покажется.
В субботу троица, утирая носы и супясь, бочком прошла в штольманов кабинет.
— Поработаете подмастерьями в зеленной лавке на рынке, я договорился с хозяином. Человек он добрый, обижать вас не станет. Так и копеечку заработаете на корзинках, и сахару себе покупать станете, согласны?
Пронькины стянули картузы и закивали обрадованно, а Акимов прищурился.
Не промах братец, — усмехнулся Штольман.
— Ты чего насупился, не доволен? — спросил он мальчишку.
— Я, дяденька, за копейку гнуть шею не стану. Я за интерес хочу.
— А я ведь тебя не просто так на рынок-то посылаю. Я тебя хочу помощником своим сделать.
Штольман отвел его в сторонку и, склонившись над детским ухом, проговорил:
— Я, или вот господин Коробейников, будем заходить к тебе часто, проведывать, а ты нам рассказывать станешь обо всем интересном или странном, что происходит на рынке, о всяких местных проделках. Согласен?
Мальчишка подумал и согласился. Так появился у него один юркий и всезнающий осведомитель. Можно сказать, первый после Андреевны…
В таких необременительных, и порою комичных происшествиях проходили его будни. Работа снова выручала и давала чувство удовлетворения, Артюхин не мог нахвалиться Сыскным кабинетом, и Яков почти забыл о недавних своих терзаниях из-за несбывшихся надежд…
И вообще, он всегда быстро восстанавливался от житейских неурядиц.
К тому же пришла, наконец, весточка от Варфоломеева. Как-то ближе к вечеру в кабинет вошел подтянутый телеграфист со станции, и, козыряя, протянул ленточку, на которой было выбито всего одно слово: «Просыпайтесь».
Штольмана не нужно было уговаривать, он был бодр, как никогда. Полковник дал ему понять, что вскоре начнется что-то очень серьезное…
***
Андреевна все так же приходила раным-ранехонько, растапливала камин в простой зеленой гостиной, и потчевала «барина Иакова Платоныча» сайкой или калачами. Яков запивал их на зеленой бархатной скатерти горячим ягодным взваром, читал «Затонский телеграф» и смотрел, как в окнах косыми сетями чертится льдистый дождик. Октябрь перевалил за середину…
Вскоре выпал снег. С каждым днем он порошил все гуще, все полнокровней — своею слепящей, непривычной глазу белизной сотворяя затонские деньки светлыми, радостными. По утрам снег скрипел под ногами, и пахнул нездешней чистотой; днем превращался в пену, истаивая в колеях по дорогам, оставляя после себя лишь белоснежные шапочки на кустах с реденькой огненной листвой… Но потом он возвращался и снова летел, как благословение небес: сахарною крупкой, или вальсирующим пухом, дарил острую ласку щекам и скулам прохожих, убаюкивал голую землю…
По утрам перед службой Штольман привык слушать, как Андреевна ворчит на жизнь, перечисляя, что сделано или еще не сделано в эту пору:
— Зазимки нагрянули, а я наново избу не законопатила, все-то не с руки мне, — бурчала она себе под нос, выметая пыль из углов. — Покров уже давно прошед, Параскева на дворе-то, а я не поспеваю… Хорошо, лапоть сожгла, таперича прибавится мне ходу на зиму.
И вдруг, внезапно оборотясь на Штольмана, провозглашала:
— Я ить и хозяйке сказывала, пора ей, пора дом конопатить! — и кивала со строгостью.
— Пора, значит, законопатим! — отвлекшись от газеты, покладисто соглашался Штольман.
Что касалось хозяйства, Авдотья Саввишна слушалась Андреевну беспрекословно. Она наняла двух крепких мужиков, и те который уже день лазали вдоль стен — затыкали щелястый домик Авдотьи Саввишны паклей и мхом.
А старенькая служанка все охала.
— О чем охаешь, Андреевна? — спрашивал ее Яков Платонович.
— Да зять-то мой совсем занедужил. Мычит все, мается, ломко, видать, ему…
— Это тот зять, что расслабленный лежит?
— Он самый, Ваша милость. Почитай, ужо три года лежит. Я Касперовской-то Матушке молилася о нем, о зяте своем, да видно судьба его такая.
— А что случилось с ним, Андреевна?
— Да деревом на лесоповале зашибло, барин. С тех пор и лежит Митяюшка… Моя Нюрка-то в поденщицах белье господам стирает — ломается, так я боле хожу за ним.
— А доктору вы его показывали?
— Да нешто, барин, дохтур помогёт? Дохтур токмо порошками за великие деньги пользует, а толку никакого. Я уж его уксусом обтираю, да зову иногда костоправа-то — помять болезного, но не встает он.
— Все ж показала б ты его доктору, а, Андреевна?
— Да не жилец он, Митяйка-то наш, помреть к следующему Покрову. То оно и лучше будет, Нюрке слегчает, и я уж тогда к сестре в Пазушку перееду. Нюрке-то я ишшо не говорила…
— А откуда знаешь, Андреевна, что помрет?
— Вижу уж. — коротко отвечала старушка и шла в комнаты: хлопотать. Шаркала и переваливалась усталой уточкой. А Яков отправлялся на службу.
По воскресеньям старушка иногда заходила ввечеру, взбивала перину, затепливала лампадку в его спальне и говорила, что вот уж и Богородица по земле пошла, теперь до Казанской ходить по Россиюшке станет — дознать ей надобно, как урожаи задвинули в закрома.
— Счас и лешие бузить и колобродить по лесам перестают, боятся Ее. Вона как давеча поломали на заимке дерева-то, с корнями повырывали! И выли весь день, та ни мужик, ни баба, та ни ребята не совалися к лесу — боялися, что лешаки натешатся над ними напоследок… А таперичаа-а… — она как-то светло и облегченно вздохнула, — тишь-то какая стоит! Присмирели пред Матушкой, провалилися под землю до весеннего паводка.
И вправду, недавно налетела на Затонск буря, свирепствовала весь день, ветер завывал так, что пламя в печах и каминах бунтовало, как ангельское войско в последней битве… Затонские жители заперлись по домам, и носу не совали на улицу — пережидали…
Яков привык к шелестящим рассказам старушки, к ее монотонному «бу-бу-бу», под которые можно было думать, и писать… Она стала неотъемлемой частью его холостяцкого уюта, и когда в редкие воскресные вечера она не появлялась, ему бывало одиноко.
По вечерам Яков усердно работал над Делом о пропаже Негошевых денег — составлял отчет для Варфоломеева. Дело продвигалось споро. Яков не без удовлетворения распутывал узлы и события злополучного июля и катастрофического августа, предвкушая, что однажды сможет ухватить князя, виновника всех его злоключений, за хвост, и предать его если не суду, то хотя бы опале… Он совсем не таился от себя, что жаждет и ждет реванша. Надо только набраться терпения, и хорошенько покопаться в том летнем деле… По его расчетам выходило, что через пару недель он сможет отправить нарочного к полковнику с пухлым пакетом.
Но он просчитался. Нагрянувшие события заставили его ускориться.
***
Ранним, снежистым, бодрым утром они встретились с Коробейниковым в центре у городской управы и, немного прогулявшись рысцой, забежали на рынок — проведали своих мальчишек: те старательно носили за покупателями полные снеди корзины. Еще заглянули в трактир к приказчику Тычицкому — исправно ли ведет ли себя давешний упрямец? Но пока что и стар, и мал вели себя образцово.
Часам к десяти они прибыли в участок. Как вошли, дневальный, отдавши честь, протянул им кипу корреспонденции. Яков кивком головы доверил помощнику взять письма, а сам, не смиряя шаг, направился в помещение.
В участке было людно: там дежурный принимал просителей, тут по лавкам озадаченные
горожане маялись с жалобами. За одним из столов сноровистый околоточный Самсонов составлял дознание на какого-то растерянного мужика с длинной бородой. Штольман остановился послушать. Мужик мял в руках войлочную шапку и узловатыми работными руками прижимал ее, словно ребенка, к заношенному армяку. Сам же плачущим голосом умолял Самсонова не писать рапорт, выкрикивая: «не виновен я!» — вечный аргумент всех, попавших в сети полиции. Самсонов супился, обзывал подозреваемого «каторжанской мордой», и стоял, вернее, сидел над бумагою, насмерть.
Штольман поинтересовался подробностями, и околоточный доложил, что уловленный мужик, оказывается, ловкий карманник с рынка, и поймать его, мол, не могли целую неделю, а вот теперь повезло! И что все свидетели клятвенно указывают на него.
Мужик, в котором не проблескивало ни ловкости тела, ни хитрости, уже и слезу пустил от отчаяния. На карманника он походил примерно так же, как Яков Штольман — на записного куплетиста. Сразу было видно: его коричневые узловатые руки кроме сохи и топора ничего и не держали в жизни, ну какой из него карманник? Смешно, право! Ошибся Самсонов.
— Отпустите, Христа ради, Ваше благородие, — умолял мужик, осознав, что на Якова Платоныча теперь вся надежда. — Врут ваши свидетели!
Яков Платонович, заряженный за неделю авантюрным веселием от подобных склок и разборок, решил пособить бедолаге. Но свидетельства против него на козе не объедешь, и чтобы показать, что следствие пошло по ложному пути, он придумал шутку.
— Отпущу, — заверил пострадавшего сыщик, — если фокус покажешь.
— Какой такой фокус? — недоуменно переспросил тот.
— Да самый простой, — Яков вынул из кармана колоду карт, которую вечно таскал с собой, и исполнил — на удивление служивым, и себе на потеху — обычный скользящий вольт, перекинув верхнюю половину колоды под другую половину. Пальцы еще не забыли, — удовлетворенно подумал он про себя.
Челюсть от поставленной задачи у деревенского мужичка отвисла, так что борода его выросла вдвое.
— Не приучены мы к этому, Ваше благородие! — затараторил он, зажалобил сквозь слезы.
— Давай-давай, сделаешь — отпущу. — поднажал в ответ Штольман.
И тот начал пыхтеть над колодой, неловко переминая ее в пальцах, и все окончилось тем, что карты веером рассыпались прямо перед носом околоточного Самсонова, как маленький фейерверк.
— Отпускайте его! — подытожил начальник Затонского Сыска.
— Да как же! — строго и неуступчиво воспротивился Самсонов, — а свидетели показывают?
— Врут ваши свидетели. — повторил сыщик слова бедолаги. — С такими руками, да кошельки? Отпускай! — прикрикнул Штольман, и стремительным шагом направился в кабинет.
Впечатленный увиденным Коробейников поспешил за ним.
— Свобоооден! — с сердитой разочарованностью пронеслось за их спинами.
— Как Вы, однако, рассудили, как царь Соломон! — восклицал помощник. Точно, теперь уже и соломоном побыл, это мне к прокрусту добавилось, — улыбнулся про себя Яков, а вслух заметил:
— Неужели ирония, Антон Андреевич? Наконец-то!
Едва уселся за рабочий стол и раскрыл новые дела от дознавателей — разбиравший корреспонденцию Антон подал ему письмо. Узкое и надушенное, от Нины.
«Милый мой Якоб!
Эти дни без тебя тянулись мучительно долго. Я примчалась бы еще на прошлой неделе, если бы не поручение Высочайшей особы, Коей я служу, как тебе известно. Я хотела бы принадлежать тебе безраздельно, но даже себе не принадлежу.
И вот я здесь, в той же гостинице.
Жду тебя, жду.
Твоя N.»
Улыбка бессознательной польщенности заиграла на его губах, и он поправил галстух. Ее внимание льстило каким-то тайным струнам его души, ведь обычно женщины не баловали его своею горячностью… Нина играет с ним — он ожидал этого, но он не ожидал, что она повторно решится приехать за тридевять земель после его резкой, сухой отповеди, тем более так скоро, ведь она столь самолюбива! Надо признать, умела она польстить мужскому самолюбию…
Пока он предавался неясным для себя самого метаниям, вошел дежурный и доложил:
— Ваше высокоблагородие. Труп — в Михайловской слободке.
Секунда замешательства — ведь они с Антоном успели поотвыкнуть от мертвых, и Яков скомандовал:
— Экипаж к подъезду!
Письмо было спрятано в стол, сюртук застегнут наглухо, и вот, они с Коробейниковым, надвинув котелки, устремляются на новое дело.
***
В слободке, в дешевых меблированных комнатах, пропахших средством от клопов, хозяин двух из них, «буйный Набокин», как отрекомендовала жильца переполошенная хозяйка помещений, лежал навзничь на несвежей постели, одетый в рубаху и фланелевые брюки на подтяжках, и был совершенно мертв.
Обе узкие комнатки были заполнены испитыми бутылками, да городовыми, которые будто бы производили первичный осмотр, но все больше бестолково толпились.
В спальне бойкий околоточный Ульяшин, в ведении которого находилась слободка, как всегда зычно и приподнято отрапортовал:
— Здравия желаю, Ваше высокоблагородие! Значится, Набокин Савелий Ефремович, ночью помер.
Тут же топтался и помощник участкового пристава Бочкина обер-офицер Лихотин Алексей Кириллыч, громадный служивый, красное значительное лицо которого было чисто выбрито, а над губою распахнулись щетинистые опрятные усы. Брови его были сдвинуты, а из-под них дотошно и пытливо выглядывали глаза.
Алексей Кириллыч и Ульяшин спорили о причине смерти Набокина. И опять, вопреки науке Штольмана, выносили вердикты вперед осмотра: «от пьянки помер» — говорил один; «да, пил, как свинья» — изволил выражаться второй. Сильна была затонская привычка рубить с плеча вердикты, но ничего, Штольман вошел и сразу взял дело в свой оборот. Он приказал Коробейникову произвести осмотр места, а сам потребовал доклада.
Полицейские доложили, что соседка нашла тело, когда пришла за возвратом заемных денег, а дверь-то была открыта. И вроде от водки, сам умер человек, и не пропало ничего…
Сыщик склонился над телом умершего, и бегло осмотрел: внешних провождений не было видно, но лежал он как-то странно — наискосок. Рука откинута в бессильном жесте, и сапоги не стянуты. Если бы он собрался отдохнуть — первым делом снял бы сапоги, это уж всякий мужчина знает. Сапоги. Штольман перевел взгляд пониже и вдруг заметил под левым сапогом Набокина какие-то следы. Он наклонился посмотреть, приподнял безжизненную ногу, и увидел на каблуке хорошую армейскую набойку, а под нею — жестоко исцарапанную половицу.
Вот тебе и раз.
Так могло быть только в одном случае — если человек отчаянно боролся за жизнь. Не самостийная смерть это, насильственная, сразу понял Штольман. Буйного поручика Набокина ночью задушили.
— Тело к Милцу отправляйте! И соседей опросите. — приказал он Ульяшину, преодолевая его упертую веру в силу пьянки, покаравшую Набокина. И уже начал закипать.
— Сделаем! — откозырял более догадливый Алексей Кириллыч и пригрозил Ульяшину кулаком.
— Яков Платонович, фотография! — вынырнул из соседней комнатушки Коробейников. — Тут какие-то пометки.
И протянул Штольману довольно четкий снимок, в два яруса запечатлевший военных из одного взвода или отделения. Все они, и сидящие впереди, и стоящие позади офицеры, опирались на эфесы сабель, и длинные портупейные шнуры их, и аксельбанты указывали на принадлежность к летучим отрядам лихих конно-егерских войск. Штольман внимательно оглядел карточку и странные отметки, сделанные поверх: лица четверых офицеров были безжалостно перечеркнуты чернилами крест-накрест. И в одном из помеченных офицеров он смутно узнал погибшего Набокина.
— Так он что, служивый? — немного растерянно спросил сыщик у Лихотина.
— Ну, да-а, — подтвердил тот, — он поручик в отставке. Давно уже, еще с Крымской компании…
Задушенный поручик, перечеркнутый крестом. И таких еще трое… Мда, задачка.
Он раздал Ульяшину и Лихотину последние указания.
— Слушаюсь! Сделаем. — нестройно отвечали полицейские.
А сыщики вернулись в участок — обдумывать произошедшее…
Не прошло и часу, как в кабинет ворвалась Анна Миронова. Побелевшая от морозца, встревоженная чрезвычайно, она сверкала огромными потемневшими глазами, и даже забыла поздороваться. Антон помог ей снять пальто, и она проговорила:
— Господа, моему отцу требуется ваша помощь.
— Слушаем Вас, Анна Викторина, — коротко отвечал ей Яков Платонович.
И Анна чуть сумбурно поведала о том, что этим утром, за завтраком, ее отец был сильно испуган внезапным происшествием. Испуган до колик в сердце… Старой фотографией, которую Мироновым не послали по почте, а подсунули под дверь, и слуга подал ее с утренними газетами к кофе…
— Отцу стало так плохо, что мама… Его что-то очень напугало в этой карточке, но папа ничего мне не говорит… — она сокрушенно взглянула на Якова, — и знаете, я убеждена, эта фотография таит в себе зло для нашей семьи.
Она нервно и порывисто, как встревоженная птица, металась от вешалки к столу. Сыщики не прерывали ее.
— А теперь Вы, как всегда, посмеетесь надо мной, — обронила она, упирая на это «Вы», — но вот эта фотография! И я знаю, что в ней скрыта тайна, опасная для моей семьи.
И она протянула глянцевитый снимок, точь-в-точь такой же, который они нашли у убитого поручика Набокина пару часов назад. Точно такие же чернильные пометы были и на нем.
Штольман в замешательстве воззрился на фотографию. И подошедший Антон Андреич не менее встревоженно уставился на нее. В кабинете повисло звенящее молчание, и стало слышно, как тикают каминные часы… Сыщики переглянулись.
— Господи, да что же это такое! — вскричала Анна, неверно истолковав их перегляды. — Почему Вы мне не верите? Эта фотография опасна! — и она обессиленно опустилась на приемный стул.
— Отчего же не верю. Очень даже верю, — слегка дрогнувшим голосом объявил Штольман, затем встал и, достав из бюро давешнюю фотокарточку, протянул барышне.
— Откуда это у Вас? — напряжённо и чуть растерянного спросила она, и подняла на него глаза.
— Нашли у одного отставного поручика, умершего сегодня ночью при невыясненных обстоятельствах, — не стал скрывать истину Штольман.
Анна переполошилась совсем, дрожащей рукой закрыла губы и зашептала:
— Господи, Господи…
— Расскажите подробнее о вашем снимке, — попросил сыщик.
— Отец говорил, что… — она собралась с силами, — что все офицеры на этой фотографии погибли. Кроме него и еще троих.
— Очевидно, выжившие — это те, кто отмечен. — он протянул карточку Коробейникову, внимавшему с приоткрытым ртом.
— Да, это они. — горько подтвердила Анна, в голосе ее дрожали слезы. — Вот мой отец, — и она указала пальчиком на офицера в верхнем ряду.
— Больше никого не узнаете? — спросил Яков Платонович, полагая, что девочкой она могла видеть в своем доме кого-то из них.
— Нет, никого, фотография-то старая.
— Ну, начнем с того, что она не старая. Очевид…
— Как не старая? — взволнованно перебила Штольмана Анна. — Отец говорил, что она была сделана лет десять назад…
— Возможно, — согласился сыщик и тоже, наконец, сел, — но отпечаток с нее сделан совсем недавно: края ровные, и не пожелтела совсем… Очевидно тот, кто печатал эту фотографию, имеет старую негативную пластину. А может, он сам ее и делал. Это я вам как специалист по фотографии говорю.
Анна поджала тревожные скобочки губ, и посмотрела на Якова Платоновича с пристальной надеждой:
— Так, а что ж теперь делать?
— Нужно узнать у Вашего отца, кто их фотографировал. — сказал он и впервые после ссоры заглянул ей в глаза…
***
В осиротевшем осеннем саду Мироновых каркали вороны, и свежевыпавший снег оттенял потемневший, будто заплаканный, дом и голые стволы, которые теперь совсем не походили на заповедные места…
Был послеобеденный час, когда Штольман взошел на крыльцо дома Мироновых и постучал в двери. Ему открыла давешняя старенькая служанка Прасковья и без слов провела его притихшими комнатами в кабинет хозяина: ничто не нарушало тревожной тишины, и даже встреченные горничные не переговаривались, а склоняли головы и быстро-быстро мелькали над лаковой мебелью пушистыми метелками.
В одной из сквозных комнат у маленького столика посиживал дядюшка Анны. Он уютно угощался наливочкой из хрустального штофа, и, не спеша, закусывал это дело вишневым вареньем. Штольману даже показалось, что он слышит, как Петр Иванович тихо мурлычет от удовольствия. Завидев гостя, брат хозяина деликатно прикрыл свое пиршество газетой, и кивнул Якову с хулиганским прищуром заговорщика. Штольман мимолетно улыбнулся ему в ответ, и прошествовал мимо.
Виктор Иванович принял Якова Платоновича с ровной приветливостью, и только некоторая бледность лица выдавала его утреннее смятение.
— До меня дошли слухи, — сообщил как можно нейтральнее Штольман, — что Вам сегодня устроили некрасивый розыгрыш. Вот, зашел Вас проведать, Виктор Иванович.
— Мда, — подтвердил Миронов-старший, — эта глупая шутка… Благодарю за любезность, Яков Платонович! Прошу, присаживайтесь.
Фотография, так испугавшая его, была вновь продемонстрирована сыщику, без всякой утайки, и Яков еще раз рассмотрел ее. Это, действительно, была копия с одной пластины, как две капли воды похожая на первую, найденную у погибшего Набокина, и четыре чернильных креста были начеркнуты ровно на те же лица…
Виктор Иванович, судя по всему, в Набокинскую историю не был посвящен. Он даже не знал, что Анна приносила фотографию в участок. Умница барышня, — похвалил ее про себя Штольман, — бережет отца.
Тем временем, разглядывая своих полковых товарищей на черно-белом снимке, Виктор Иванович увлекся и, показывая пальцем то на одного, то на другого офицера, представлял их по именам:
— Эту фотографию сделал мой друг, подпоручик Шапкин, — он указал на мужчину, замершего с левого краю, — видите, он стоит с испуганным лицом? Он так боялся не успеть добежать до остальных… — адвокат добродушно и негромко рассмеялся над плечом Штольмана этим приятным воспоминаниям.
— Он не отмечен, получается — погиб? — спросил его сыщик, чуть подняв голову.
— Да, он погиб, — с прозвеневшей скорбью отвечал Виктор Иванович.
— А это подпоручик Бехтерев, мой товарищ, — после паузы Миронов указал на офицера, стоящего в центре, справа от себя. — Он тоже погиб в той засаде.
Миронов-старший назвал по фамилиям еще нескольких человек. Все эти офицеры, не отмеченные на карточке, погибли, по его словам. Набокина он не назвал, из чего Штольман сделал вывод, что они не были близкими товарищами. И сыщик решил повременить с сообщением о его грустной кончине.
Он снова внимательно погрузился в разглядывание карточки. Один офицер, третий слева в верхнем ряду, остро выделялся на фоне стройных и статных товарищей, глядевших в объектив прямо и не скрываясь. Штольману давно бросалось в глаза его странно опущенное, понурое лицо, а, главное, поза! Этот человек был единственным, кто вышел на снимке в профиль. Будто бы он вовсе не хотел стоять плечом к плечу с боевыми товарищами…
— А это кто? — Яков ткнул пальцем в эту странную фигуру.
— Поручик Садковский, — коротко ответил Виктор Иванович и отошел к винному столику, сразу потеряв весь свой увлеченный настрой.
— Он тоже не отмечен, — продолжил допытываться Яков Платонович, — стало быть, погиб?
— Кажется, пропа-а-ал, — протянул Миронов, наливая себе успокоительную рюмочку, — нет… ээм… погиб. Погиб, конечно же, погиб.
Яков насторожился.
— Так пропал или погиб? Вы не уверены? — весь обратившись в слух, спросил он в воздух.
— Уверен. — отвечал хозяин кабинета, и более не добавил ничего.
Он явно чего-то не договаривал, но прояснять ситуацию точно не желал. Штольман со своей стороны тоже не спешил посвящать его в приключения странных фотографий. Розыгрыш это или нет, дурная ли шутка или угроза, еще предстоит выяснить, а пугать раньше времени главу семейства Мироновых не входило в его планы. Путь Виктор Иванович пока считает, что сыщик заглянул к нему в дом из дружеского участия и только.
— Ну, а что Вы сами-то обо всем этом думаете? — сменил тему Яков Платонович. — Есть какие-то предположения?
Виктор Иванович только развел руками.
— Может быть, Вы сможете вспомнить фамилии остальных выживших? Ведь кто-то из них мог получить такие же фотографии, и поможет нам пролить свет на эту тайну? — осторожно спросил сыщик.
Набокина адвокат вспомнил с трудом, зато четко назвал и указал поручика Дубова и прапорщика Ишутина. Теперь все четверо офицеров с чернильными перекрестьями на лицах были установлены следствием.
Штольман вышел на крыльцо, возле которого грустно переминалась полицейская лошадь, запряженная в возок, и кучер Зайцев, слушая на облучке грай ворон, задумчиво перебирал в руках вожжи и размышлял о бренном…
— Погодите, Яков Платонович! — вдруг услышал он грудной голос, который внезапно позвал его, и Яков обернулся. Анна Викторовна, в накинутой на плечи незастегнутой шубейке, без шляпки, и с туго заплетенной прической, сбежала с крыльца и порывисто подалась к нему:
— Вы будете дело открывать? — спросила она, и ее опушенные прядями, непокрытые ушки с маленькими зернышками сережек зарозовели на холоде.
— Все зависит от заключения доктора Милца. — невольно потеплевшим голосом отвечал Штольман. — Если он установит, что произошло убийство, то — разумеется. А если Набокин умер от естественных причин, то-о-о… — и Яков развел руками.
— Но как же! — возмущенно перебила она. — Но ведь две фотографии с отметками, это же не случайность?
Она все правильно понимала, эта сообразительная барышня Миронова, а страх за отца делал ее сообразительность еще острее. Но не следовало ей сейчас волноваться, лучше бы проявить выдержку, и желая немного ее успокоить, Штольман сказал:
— Ну, конечно, не случайность. Однако если Набокин умер своей смертью, то все эти фотографии не более, чем чей-то розыгрыш. И всё… — он понизил голос до успокоительного тона, но она совершенно не успокоилась.
— Да как — всё?! — воскликнула она. Ее щеки пылали от мороза и негодования. Грудь неровно вздымалась от клокотавших чувств. Да, успокаивать такое пламенную душу непросто. Он уже забыл — насколько…
— Не беспокойтесь Вы раньше времени! — горячее, чем хотел, воскликнул Яков Платонович.
— Давайте дождемся заключения врача? — подал он ей спасительный вариант, за который ухватилась бы любая взволнованная барышня… Но не она.
Она не могла быть любой.
— Я видела: там, на фронте, на отца напал офицер. — выдала она ценный для нее аргумент абсолютно непререкаемым тоном. — Он был в длинной шинели и с саблей.
— Видели? — нахмурился было Штольман, выслушав этот нелепый довод, но вовремя спохватился. Ведь она уже не в первый раз проделывает это: рассказывает ему о своих фантазиях. И ему это определенно нравилось недавно…
— Ах да, эти Ваши видения… — осторожно коснулся он полюбившейся ему, порывистой ее доверчивости… С которой она приходила к нему до болезненного для них обоих, недавнего разрыва, и непрошенная улыбка затаенной нежности тронула губы Штольмана. Анна несколько мгновений пытливо смотрела ему в глаза, потом резко повернулась и ушла, оставив в морозном воздухе неуловимое, легкое сияние…
А Штольман поехал к Милцу.
***
Яков Платонович все-таки тревожился. Ему очень не нравились эти фотографические совпадения, эти намеченные чьей-то рукою живые мишени. И здесь он был совершенно согласен с Анной Викторовной, интуиция которой уже не раз удивляла его своею точностью: в этих исчерканных копиях одного снимка кроется зловещая каверза. Он все еще надеялся, что это не план серийного смертоубийства, но предчувствия были нехорошими…
Заскочив по дороге в участок, он вынул Антона Андреича из тепла кабинета, разнеженного испитием чая с ватрушками, и прогнал на холод, поручив ему найти обоих сослуживцев Миронова: Ишутина и Дубова, как можно скорее.
…А в прозекторской доктора Милца было свежо. Как всегда, поблескивая скляночками и мензурками неизвестного Штольману назначения, она сияла чистотой, а сам доктор возвышался над столом и накрывал простыней остывшее тело Набокина.
Сыщику хотелось побыстрее узнать результаты вскрытия, но доктор с порога пустился в философствования, и сегодня как-то пространнее обычного… То ли осень так на него влияла?
— Что Вы можете сказать, доктор? — задал простейший вопрос Штольман, и доктор заблистал остроумием:
— Вы-ы… по поводу смерти?
— Не-ет, по поводу жизни. — в тон ему отвечал сыщик.
— Жизнь, Яков Платоныч, это величайшая выдумка природы! — взмахнул мясистой ладонью владыка морга, и набрал побольше воздуха в легкие, очевидно, собираясь порассуждать о том вечном движителе, который есть прородитель всякого естества, и который признан всяким живущим — под именем Бога или природы…
Но Штольман на провокацию не поддался:
— А давайте без лирики, Александр Францевич? Отчего он умер?
— Ну уж точно, не от пьянства он помер. Его задушили. — произнес доктор тоном утомленного мудреца, которому все тайны открыты. Вышло немного задиристо.
Ясно. Доктор решил пофорсить перед сыщиком своей догадливостью, и похвастаться своими детективными способностями.
— Ну, это было сразу понятно. — чуть ревниво среагировал Яков Платонович, все же лавры догадливого сыщика отдавать не хотелось, даже милейшему Александру Францевичу.
— Как же Вы догадались? — лениво поинтересовался доктор Милц.
— Когда его душили, он бился ногами и исцарапал набойками пол. — невозмутимо и четко отвечал Штольман.
— Угум, — промычал Александр Францевич и скрестил руки на груди. И Штольман, наконец, понял, что доктору просто хочется попикироваться. Хочется обычного словесного поединка, чтобы прогнать скуку, но, очевидно, сыскать — с кем бы ему поссориться — в морге было трудновато. С мертвыми не поспоришь, не подискутируешь… Одиноко ему, должно быть, здесь, милейшему Александру Францевичу. Поэтому он всякий раз и встречает заглянувшего в прозекторскую сыщика жаркой порцией выспренностей и латинских цитат.
Яков Платонович вздохнул, набрался терпения и позволил Александру Францевичу вдоволь поупражняться в дедуктивных размышлениях.
— Что Вы об этом думаете? — спросил он Милца. И доктора не пришлось уговаривать.
Штольман узнал много интересного: хрящевая перегородка носа убитого была смята, как под сильным давлением. А в носу его Милц обнаружил странные ворсинки. Тогда он без ведома Штольмана отправил Коробейникова на квартиру Набокина: поискать что-то подходящее…
Выложив это, доктор застыл со значительным видом, глядя Якову прямо в глаза.
— И-и? — подбодрил его Штольман.
Полностью насытившись вниманием сыщика, доктор вынул из шкафчика и протянул Якову орудие убийства — мягкий шотландский плед…
Что ж, доктор оказался полезен. Его сметливость, взращенная в тиши прозекторской, в долгих размышлениях о жизни и смерти, все же помогла расследованию.
Штольман негромко помолчал и сказал:
— Спасибо.
Довольный доктор расплылся в улыбке.
***
Вечером Яков пораньше вернулся домой, зажег свечи и засел за отчет для Варфоломеева. А уже утром, едва только он въехал во двор участка и сошел с пролетки, его окликнул высокий человек в штатском, но с хорошей военной выправкой:
— Ваше высокоблагородие. Разрешите представиться: капитан Шилов. У меня поручение от полковника Варфоломеева.
— Вот как? — он взглянул на капитана, и подумал: «вот и началось». Полковник прислал своего человека.
— Может быть, пойдем в ресторацию? Дело деликатное. — предложил капитан, и они отправились в заведение. В ту же секунду каким-то краем сознания Яков едва заметил, а заметив, едва запомнил, как в стороне промелькнули под шляпой чьи-то внимательные, очень внимательные глаза.
Лакей проводил их к столику и, когда они расположились, принял простой заказ. Капитан Шилов, не теряя времени, уточнил:
— Руку полковника знаете? — и вынул из внутреннего кармана конверт, запечатанный красным сургучом с вензелем «Собственной Его императорского Величества охраны».
Яков вскрыл конверт и достал письмо, испещренное знакомыми буковками твердого почерка полковника:
«Уважаемый Яков Платонович.
Подателю сего капитану Шилову я поручил довести до Вас некоторые особые сведения, которые не могу доверить даже бумаге ввиду их совершенной секретности. Верьте ему во всем, как мне».
Теперь в истинности намерений капитана Шилова сомневаться не приходилось, и Штольман продолжил чтение:
«Смею заверить Вас, что Ваши заслуги при Дворе не забыты. И я первый, кто будет поддерживать на самом верху лестное мнение о Вас и впредь. Ваши таланты и высокая порядочность, проявленные Вами во время расследования того прискорбного случая дают надежду на то, что в скором времени появится возможность вернуть Вас на службу в столицу. А пока Вам может представится случай послужить отечеству и на Вашем нынешнем месте. В детали дела Вас посвятит капитан Шилов.
Искренне Ваш, начальник Собственной Его императорского Величества охраны
Полковник Варфоломеев».
— Ну, что ж, капитан, — возвращая письмо, иронично произнес Штольман. — Поведайте, какие дела государственного масштаба предстоят мне здесь в Затонске?
Бестрепетным тоном капитан Шилов ответил:
— Полковник Варфоломеев поручил мне на словах донести до Вас следующее: последствия того дела, с участием члена монаршей фамилии, которое Вы расследовали, продолжают сказываться на внутренней жизни Двора…
При этих словах Штольман горько усмехнулся.
— …и даже влияют на дела государственные. — не поддержав штольмановой горечи, бодро продолжал Шилов. — Ваше удаление из столицы не означает, что Вы забыты. Здесь в Затонске назревают большие перемены тревожащего нас характера, если точнее, какие-то военные исследования. До нас дошли сведения, что вскоре в Затонских окрестностях возведут секретный полигон, и полковник хочет знать все, что возможно об этом полигоне. Кто причастен? Кто заинтересован? Кто несет службу? Любые сведения, которые Вы сможете добыть через личные наблюдения и своих осведомителей, регулярно присылайте с нарочным в столицу на мое имя, в Ведомство речной полиции, я там служу, — он чуть заметно усмехнулся.
Во время доклада Шилова Яков опять почувствовал чье-то неуловимо-пристальное, холодное внимание, и подумал, что подслушать их здесь вполне возможно. Надо же, как плотно все завертелось… Однако знакомый тапер, сынишку которого Яков недавно спас от напраслины, будто услышав мысли сыщика, нарочито громко заиграл бравурную мелодию, и Штольман успокоился, поскольку и сам теперь едва мог расслышать речь капитана (*маленький писательский привет Надежде Дегтяревой и ее прелестному рассказу "Тапер"  ).
).
— Вас понял, — закончив слушать задание, он встал из-за стола.
— Да, и все Ваши размышления о том злополучном деле, с которого я начал, полковник хотел бы прочесть в самое ближайшее время. — добавил Шилов, и с удовольствием позволил себе отхлебнуть кофе.
— С докладом не замедлю. Честь имею.
В свой кабинет Штольман вошел, снаряженный инструкциями и обещанием капитана прислать ему вскорости в помощь двух петербургских филеров.
***
В это время в кабинет вбежал взволнованный дежурный и сообщил прерывающимся голосом, что в борделе Маман Аглаи зарезали какого-то Павла Куприяныча Ишутина.
Вот тебе и два.
Когда они примчались к борделю, там уже собралась приличная толпа зевак. Но порядок был соблюден — городовые расхаживали у входа и никого не допускали внутрь. Сыщики открыли дверь и вошли в коридор, освещенный неровным светом розовых фонарей. В тесной привратницкой у лестницы никого не было, зато сверху, со второго этажа, доносился гул голосов, будто бы из растревоженного улья.
Взойдя по истертой от времени лестнице, они попали в запутанные комнаты, обитые алым штофом, стекающиеся одна в другую, как муравьиные ходы. Бархатные шторы приглушали дневной свет, как частенько бывало в злачных местах. В комнатах стоял особый дух: уже с утра всюду пахло шампанским, несвежим бельем, да дешевыми духами, напоминавшими запах кислого монпансье. И какая-то женщина все время зычно кричала из залы.
Навстречу сыщикам выплыла сама Маман, женщина не первой свежести: горестная, жеманная. Она будто зябла и все куталась в шаль, прижимая к подведенным глазам платочек, а над крупными кудельками ее прически играло султанчиком высокое яркое перо.
— Аглая Львовна, — представилась она, подавая руку. И Антон Андреич, после заминки, робко пожал ее.
— Видите, какое у нас несчастье, господа? — нараспев вопросила она, и по ее щеке сбежала быстрая слеза.
— Следователи Штольман и Коробейников. — представился Яков Платонович, не обращая внимания на ее дар горевания. — Покажите, где все произошло.
Аглая Львовна коротко кивнула низенькому лысому человечку, сидевшему под фикусом, очевидно, привратнику этих мест, и он проводил их в одну их комнат заведения.
На полу, изрядно залитом кровью, лежал хорошо одетый, пожилой господин с пышными усами. Его горло и шея были жутко изодраны обломком бутылки, которая валялась тут же разбитой вдребезги. Крови, густой и темной, натекло прилично, и она испачкала все вокруг.
Видно было, что скончался господин от сильных глубоких судорог… Страшное убийство, даже Яков Платонович видел такие не часто.
После беглого осмотра сыщик приказал выносить тело, и два мужичка из больницы доктора Милца погрузили тело на носилки, накинули простынь, и отправились с ним к доктору для посмертной экспертизы.
— Это господин Ишутин. Ей-Богу, я его предупреждал. — печально сообщил Коробейников. — Нашел ведь я его вчера! Предупредил об опасности, но он только посмеялся и вот… Беспечность — причина всех бедствий! — заключил юноша глубокомысленно.
— А что Дубов? — спросил Яков на ходу, направляясь в большую комнату: поближе к крикам.
— Дубова я дома не застал. — отчитался Антон. — Он отсутствует уже несколько дней, и никто из соседей его не видел. Он едва поспевал за начальником, который снова почувствовал гончий азарт.
В большой гостиной, увешанной фривольными картинами, и уставленной потертыми диванчиками, билась в истерике декольтированная девица, которую утешали такие же полуобнаженные и перепуганные подружки. Девицы прижимали лед к виску пострадавшей, а та голосила истошно, захлебываясь слезами.
Аглая Львовна вплыла вослед за сыщиками, и раненою лебедью запела:
— Девушки говорили, что он ростом был в два аршина. А может быть, и того больше! Я сама не видела.
— А кто видел? — быстро спросил Штольман.
— Тык-э… Лизка. Видела. — указала Аглая на рыдавшую на весь дом девицу.
Девица сморгнула, притихла и, шмыгнув носом, внезапно замерла, глядя на Якова исподлобья. Он посмотрел на нее и спросил:
— Как ваше имя, сударыня?
— Л… Ли…и-за я, — старательно отвечала дребезжащим, не слишком трезвым голосом девица, и даже привстала для верности. Уже через минуту, после ободряющего кивка Маман, она добавила, что по метрике ее прозывают Елизаветой Тихоновной Жолдиной. Штольман очень вежливо велел ей рассказать, как было дело, и Лиза, медленно выводя слова, поведала, что «этот господи-ин был очень добрый. Он часто приходи-ил, и денег не жале-ел», и залилась новыми слезами.
— Ну-как, ну-ка, отставить слезы. — прикрикнул на нее Штольман. — Вы нам про убийцу лучше поведайте.
— Ага, чичас. — Лизка собралась с духом, искоса глянула на Маман, и с жаром пустилась в пространные описания «интересного мужчины» без определенных примет.
— Вы его лицо видели? — дожимал ее Штольман.
— Нет. — судя по скорости ее ответа, и глазам, метнувшимся за новым одобрением к Маман, она его видела, но говорить боялась. Лизка сообщила, что пришелец искал Ишутина, и она проводила его в свою комнату, где господин Ишутин уже расположился.
Вошедшая Лизавета стала свидетельницей душераздирающей, по ее описаниям, сцены между мужчинами. Будто бы вошедший как закричит: «ты помнишь меня?!». А Ишутин как затрясется: «это ты? Это ты?», и еще: «не надо! Не надо!». Рассказ она подкрепляла энергичными взмахами рук и вытаращенными для пущей убедительности глазами.
Да, ей бы не в борделе, ей бы на сцене играть, — подумал Штольман, — такой талант пропадает. А может, и поманил ее сценой в столицу какой-то проходимец, она доверилась, да и оказалась здесь? Развлекает теперь своими выступлениями клиентов, да товарок…
Впрочем, он отвлекся, и чтобы вернуться в русло расследования, спросил, что было дальше. А дальше — закричала девица от испуга, да и попала под горячую руку убийцы… «Ка-а-ак дал! Ручищами своими! И я падаю. И ничего не помню!» — слезно завершила Лизавета свой живописный рассказ, и девушки заахали, а Аглая Львовна сочувственно и скорбно закачала головой. А уж после того, как мадемуазель Жолдина очнулась, она увидела клиента уже мертвым, с разбитой головой, и окровавленная «розочка» от бутылки уже торчала в его горле…
Девицы, пораженные в сердце Лизкиным рассказом, дышать не смели, и даже дознаватели, опрашивавшие клиентов в других комнатах, затихли. А Лизавета сокрушалась об убиенном Павле Куприяныче:
— Бедный, бедный, — причитала она нараспев, — он был таким чутким, таким возвышенным клиентом! Стихи мне читал. Вот послушайте…
И-и-и завела:
— Скажи-ка, дядя, ведь недаром?!
Москва, спаленная пожаром, французу отдана?!
Ведь был-ли…
Штольман от начала терпел все это представление с покладистым и мученическим видом, так как знал, что иначе девицу не разговорить, но стихов он все же не выдержал, и прикрикнул:
— Достаточно!
Лизавета оборвала выступление, а девицы бурно зааплодировали талантливой подруге.
Выдохнув, Штольман сообщил:
— Елизавета Тихоновна, вы свободны.
— Как свободна? — изумилась та. — А в тюрьму Вы забирать меня не будете?
— Ну, зачем же вам в тюрьму? Вы же не убивали?
— Я не убивала. — уверила она его пьяненьким, но честным голосом, а Штольман и не сомневался.
Он отвел ее за локоток в сторонку, и пока Коробейников опрашивал девиц, тихонько сказал ей:
— А деньги, которые вы у покойника из кошелька вытащили, спрячьте и сразу не тратьте, а то все поймут, что вы взяли.
Лизка заулыбалась, заиграла пьяными ямочками, и в порыве благодарных чувств пообещала:
— Спасибо, Ваше благородие. Вы приходите… я вас того… бесплатно.
Очевидно, что и он теперь стал для нее «господином чутким и возвышенным». Простая душа у Лизаветы Тихоновны, — подумал он, — благодарная. Обратить эту благодарность себе и отечеству на пользу очень даже полезно. Пригодится ему девица для сбора разных сведений: клиенты многое болтают в часы увеселений, а проститутки — первые поставщицы этой ценной информации.
Штольман очень нуждался в осведомителях здесь, в Затонске, он давно привык пользоваться их услугами в Петербурге, и они бывали большой опорой в его сыщицкой практике. Теперь вот и Лиза станет ему помогать время от времени, глядишь, и наберет он свою личную затонскую сеть мелких должников, которые станут его агентурой…
— Идите, — отпустил он ее. «И больше не грешите», — завертелось на языке нежданное продолжение. Но кто он такой, чтобы учить проституток жизни?
Штольман с Коробейниковым покинули бордель под вспыхнувшие с новою силой причитания и рыдания, которые теперь, видно, не иссякнут до ночи.
Возвращаясь в участок, сыщики рассуждали о том, похоже ли это дело на убийство поручика Набокина или не очень? Коробейников говорил, что Ишутина вчера ни в чем убедить не удалось и фотографию он не упоминал, но Дубова Ишутин хвалил, как верного товарища. Но зато жена Ишутина сообщила, что муж спешно уезжать собирается, да видно, никуда она его не пустила. Вот потому-то, может, он со страху в стенах борделя и оказался, и погиб?..
Штольман слушал сумбурные выводы помощника и думал, что ежели отыщется у Ишутина такая же фотография, значит, эти убийства — серийная беспощадная месть. Значит, кто-то убивает своих боевых товарищей согласно зловещим крестам… Возможно, и Дубова уже нет в живых? А значит, и для Миронова-старшего все очень плохо.


 -->
-->
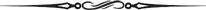
 .
.

 у меня изначально было три площадки, важных для меня, и на них только публикация и оформление забирает часы.
у меня изначально было три площадки, важных для меня, и на них только публикация и оформление забирает часы.
