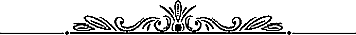
Сиреневый морок
Степан Яковлев

Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно.
Живёшь в заколдованном диком лесу
Откуда уйти невозможно.
Высоцкий.
Завтракал Степан Игнатьевич рано, всегда вместе с супругой. Это было время их только, личное. Они обсуждали вчерашний день, решали семейные проблемы, которые с утра не казались такими уж сложными. Позже подходили дети, отец целовал их и оставлял с женой, а сам отправлялся заниматься делами. Принимал доклад от Белецкого, отдавал распоряжения, разбирал почту.
В тот роковой (или, просто особенный день) они с женой много говорили об Андрее. Степан Игнатьевич ворчал, что сын «лезет, не зная броду». Какой-то технический шёлк, необходимый для производства электрических приборов. Но на самом деле Степан Игнатьевич гордился сыном: мальчик вырос, решает самостоятельно, чем заниматься, и организует что-то своё, уникальное. Когда он придёт на ужин, надо будет расспросить его поподробнее об особенностях оборудования. Без высокомерия, на равных, чтобы он почувствовал уверенность в себе.
Отчёт Белецкого был стандартным, особого внимания требовали только новые станки для Затонской фабрики, которые двигались из Англии железной дорогой и застряли где-то под Гродно.
Потом Степан Игнатьевич просматривал счета, оставив «на сладкое» большой пакет из Парижа от знакомого couturier, в котором был новейший модный журнал и подробная роспись ожидаемых требований к тканям в грядущем сезоне.
В этот момент ему сообщили о срочном деле. С фабрики примчался взъерошенный городовой, твердил, что «обстоятельства чрезвычайные, требуют присутствия хозяина».
Пришлось ехать. Яковлев подумал было, что травма, работник руку под бердо сунул или пожар. Оказалось – смех один. Несколько рабочих, бросив станки, собрались во дворе кучкой, курили и толковали «за жисть» громче обыкновенного. Яковлев заметил, что это были сплошь молодые, малоопытные парни, те, что недавно из деревни, потому и особо гонористые, считают себя рабочей косточкой и «великим классом». Подойдя к толковищу, он упёрся в нагло-выжидательные взгляды, услышал странные вопросы о «капитале, оставленном в биллиардной», «банкротстве», и «о нас-то, кто подумал!?» В руки ему сунули местную газету – «Затонский телеграф», которую он видел первый раз в жизни, и ткнули пальцем в статью.
Начав читать, Яковлев еле сдержался, чтоб не рассмеяться. Но с рабочими надо быть серьёзным, а то подумают, что не уважаешь. Пришлось останавливать фабрику, собирать всех во дворе и держать речь.
Говорить нужно было всё о приятном: о новом цехе – жаккардовом, очень сложные станы, рабочие нужны будут молодые, внимательные. Работать будут круглые сутки, будет не одна смена, а три. Смена будет короче, а оплата такая же.
И что сын его, слава богу, с головой, и начал строить свою фабрику неподалёку, туда тоже потребуются грамотные рабочие. Без работы никто не останется.
А то, что такая клевета в газете появилась, так это хороший признак, конкуренты чуют силу Яковлевых, завидуют, вот и бесятся.
Потом Терентьич подъехал, с рабочими говорил о том, что в полиции тоже «ваньку не валяют», и всё что в «Телеграфе» написано проверили тщательно, и нет там ни слова правды, да и когда она бывала, правда эта в «Затонском телеграфе»? И что того, кто слухи распускает уже вычислили, и нечего бузить, и так далее. Степан Игнатьевич уже не слушал, приказал управляющему ведро квасу выставить во двор за свой счёт, пусть охладятся и дальше работают. Хотя какая работа, сегодняшний день считай, пропал для фабрики.
Домой вернулся уже к обеду, после которого пришлось продолжить со счетами. Французский журнал опять откладывался. Кроме счетов – письмо из Москвы от шурина и простой маленький конверт из Зареченска без обратного адреса. Яковлев поторопился его вскрыть, недоумевая, какие там остались дела, что он позабыл.
Из конверта выпала фотокарточка.
Симпатичный мальчик в картузе и косоворотке на фоне декорации со звёздным небом.
Зачем это? Ничего не говорила ему эта фотокарточка.
На обратной стороне карточки написано мелким почерком карандашом:
Степан.
Рождения 1880г.15 февраля
Богимовка.
А вот это говорило уже о многом.
Вот как... Расстался он с прошлым, а оно возвращается, да так, что не открестишься и не откупишься. Или… в таких письмах обычно просьбы о деньгах присылают. Посмотрел конверт ещё раз. Там ничего больше не было.
Прошёлся по кабинету с карточкой в руках. Задержался у стола, где стояла фотография: вся его семья во Флоренции. Андрей приезжал на лето из пансиона. Стоит, держит Сашу за руку, будто боится потерять. Такую потеряешь. Ей десять лет, а взгляд властный, уверенный. Позади детей стоят они с Катей. Он сам ещё очень молодо выглядит. Катя улыбается с Верочкой на руках.
Да, пожалуй, этот Степан похож на Сашу, даже очень похож, особенно взглядом. И зрачки немного разные, но в монохромном изображении – видно плохо.
Сквозь знакомые черты незнакомого мальчика, проступало другое лицо, девичье - тонкое, нежное, как бы нездешнее. Миг, и встало оно перед мысленным взором Яковлева, как живое, как будто вчера виденное.
Он безвольно опустился в кресло, закрыл глаза и стал вспоминать.
* * *
Женили, его не спрашивая. По обычаю отец сам выбрал ему жену, себе невестку. Отец сыну худого не сделает.
Катерина была девушка красивая и с образованием, из многочисленного и богатого уже тогда рода Корзинкиных – чаеторговцев.
Степан всё от отца воспринимал, как должное. Тогда, до реформы, совсем другая жизнь была, и сам он другим был.
Свадьбу сыграли в Москве, как положено, обильную и громкую. С обедом, переходящим в ужин, на двести человек гостей, с пьяными драками за полночь. Степан только досадовал, как бездарно тратятся деньги, на которые можно было бы новую лавку открыть в Затонске.
Медовый месяц тоже провести должны были в Москве в дорогой гостинице. Но уже через неделю жених затосковал и забеспокоился о делах. И тогда Катерина сама сказала ему: «Степан Игнатьевич, поедемте домой, что нам тут делать», – они были традиционно на «вы» тогда ещё. Степан помнил потом всю жизнь, как вздохнул с облегчением. О любви он и не думал, но осознал, что жена ему обузой не будет, и понимает его без слов, и поддержит во всём. Так оно и вышло.
По брачному договору на руки Степану Яковлеву шурин выдал только две тысячи, остальное приданое: каменный дом с обстановкой и рента – пожизненно принадлежали Катерине. Клан Корзинкиных заботился о своём человеке.
И было в том доме всегда тепло и светло, уютно и спокойно, слуги всегда при деле, запасов – хоть три года осаду держи. Поэтому и не вникал молодой купец в дела домашние, и даже рождения детей прошли для него незаметно, всегда в отъезде оказывался в те беспокойные дни. Затревожился только однажды, с рождением Саши. У неё, ещё младенца, глаза были различные по цвету. Но отец ему объяснил, что это ничего, и в их роду такое случалось, значит – характер будет крепкий, и жаль, что не мальчик.
К рождению первенца Андрея, шурин подарил им пару вороных рысаков, но заводить свой выезд Степан отказался. Слишком дорого. Жена выезжала редко, обходилась извозчиком, а сам он по делам ездил верхом, по старинке. Степан чувствовал, что не по статусу ему и этот просторный каменный дом, и, тем более, выезд. Купец третьей гильдии, это чуть больше, чем управляющий. Родня посмеивалась над его прижимистостью, но Степана это не заботило.
Главной его заботой, его страстью, то о чём думалось с удовольствием даже во времена провалов и неудач, было шёлковое дело, его фабрика, исполнение детской мечты.
Степану было двенадцать, когда отец, отправившись в Москву для закупки товара, впервые взял его с собой. Таскаясь по пыльным складам и тёмным конторам, Степан почти не видел самой Белокаменной, скучал, хотел домой. Но в конце недели, они приехали на Промышленную выставку. И там, в текстильном павильоне увидел он великолепие сверкающее, переливчатое, да с узорами.
До того дня он думал, что шёлковыми могут быть только ленты.
На столах лежали отрезы шёлка до двух аршин шириной. Служитель встряхивал ткань за концы, и она взвивалась сверкающими волнами. Гладкие атласы – на ладони прохладные, текучие, как молоко. Фуляры – мягкие и будто бы тёплые на ощупь. Шёлковый бархат вообще похож на что-то живое, словно своей волей ползает по столу. Пу-де-суа – совсем другая, с ломкими линиями складок и еле заметным рубчиком. Глазеты с такими тонкими, словно вышитыми орнаментами с цветами и птицами райскими. Парча – плотная, тяжёлая, всё равно мягко-податливая, как сырая глина под рукой. И такое многоцветье нитей, и каждая нить сверкает, как из уральского самоцвета вытянута.
Пожилой смотритель, видя интерес мальчика, разворачивал образцы, рассказывал неспешно про отличия и достоинства астраханских, владимирских, петербургских шелков. Московские – самые лучшие. Степан каждое слово запомнил из той речи.
Подошёл отец, сказал: "Это нам без надобности, в Затонске нет покупателей на такую роскошь", – и увёл сына к ивановским ситцам.
Степан ушёл с сожалением. И твёрдо решил про себя: рано или поздно, но обязательно будет он иметь своё шёлковое дело, торговое или фабричное, там посмотрим.
Но приблизится к своей мечте, хоть на чуть-чуть смог он только после смерти отца, когда получил наследство. Небольшой капитал и торговое дело: прилавок на Ярмарочной площади, где продавали ситцы и лён, и маленький магазин в каменном доме на Гостиничной улице – торговля сукном и голландским полотном.
Всё рассчитав и прикинув возможности, Степан понял, что торговать шёлком в Затонске, в самом деле, убыточно. А вот построить фабрику намного дешевле, чем покупать лавку в Москве. Но и на это капиталу не хватало. Он стал искать «горячие» деньги, чтобы прибыль быстрая. И заметил, в Зареченской слободе год от году разрасталась ярмарка.
Поскольку на том берегу удобная пристань была, крестьяне на лодках и плотах привозили овёс, зерно и прочие излишки. Всё это у них с удовольствием скупали перекупщики. По весне с верховьев сплавляли древесину. По началу торговля была только фуражная и оптовая. Прямо с лодок продавцов перегружалось всё на подводы покупателя. Но после реформы купцы с других волжских городов стали доставлять самый разный товар. На безлесном холме недалеко от пристани начали строиться торговые ряды, вокруг – дома и склады. Начал селиться народ по склонам холма. По всему выходило, город будет расти, и ярмарка – тоже.
И чем шире будет ярмарка, тем дороже будет земля вокруг торговой площади.
Яковлев начал скупать землю, у тех торговцев, что разорялись по разным причинам. По большей части – из-за пожаров. Горело часто. Сам он землю не использовал, сдавал в аренду.
Тогда и пришёл к нему Коготь с требованием «фартового налога» за эти сделки. Оказалось, пожары были не случайными.
– Ты горелые пустоши по дешёвке скупаешь, думаешь, они сами выгорели? На нашей работе жируешь. Плати, – заявил ему Коготь.
С фартовыми спорить – себе дороже. Или платить, или уходить с их «поля». Но поторговаться можно.
– Откуда мне знать, ваша работа, или случайность, или хозяин сам запалил, чтоб страховку получить.
– Ну что ж, – ответил Коготь, – оно резонно выходит. Так договоримся. Мой человек тебе сообщать будет загодя: кому за неуплату петуха запустим. Если ты этим попользуешься, с тебя двадцать процентов от сделки. С остальных продаж мы десятину берём.
Ещё когда Степан только начал помогать отцу в магазине, увидел однажды, как тот выдал какому-то скользкому типу пачку красненьких просто так, без расписки. Степан высказал своё недоумение, и отец ему раздражённо ответил: «Если с властями и с фартовыми договариваться не умеешь, вообще не лезь в торговлю. На государеву службу иди, писарем».
Пришлось научиться.
В Затонске приходилось платить от трёх до пяти процентов с прибыли. Это была гарантия, что не ограбят, и карманники хотя бы в лавке покупателей обчищать не будут. Неплательщиков тут тоже наказывали: в основном грабили лавки, иногда – избивали приказчиков и от карманников житья не было.
В Зареченске фартовый закон другой был. Коготь требовал от десяти до пятидесяти процентов, а тех, кто не справлялся, безжалостно изгонял с ярмарки, сжигая магазин или склад, а то и всё подчистую. Но на место неудачников, всегда приходили другие, с оборотом поболе. Получалось, фартовые ускоряли процесс замены «пустохватов» солидными коммерсантами.
Степан усмехался про себя, представляя, что будет с Когтем и его бандой, когда эти солидные люди объединятся в концерн и организуют охрану своего имущества. Но, на то они и фартовые, о будущем не думают.
В конце концов Степан Игнатьевич согласился. Не он, так другой заберёт пустующую землю. Он хотя бы не торговался с погорельцами.
После реформы в торговлю все, кому не лень, полезли. От разорившихся дворянчиков до неграмотных крестьян. Эта ярмарочная чехарда почти десять лет длилась. Всё то время Яковлев, ведя дела в Затонске, постоянно совершал сделки в Зареченске, потихоньку наращивая капитал в надёжных банках. Которые из них надёжные, тоже Коготь подсказывал.
* * *
Не наследственное, а его собственное дело постепенно строилось: фабричное здание, станки, рабочие, поставщики сырья, оптовые покупатели, заказчики.
Но, всё равно, Яковлев экономил, где мог: на гостинице, на извозчиках. В Зареченск ездил верхом, в тот же день возвращался домой. А когда по нескольку дней из Зареченска дела не отпускали, летом взял себе за привычку ночевать на заброшенной мельнице в лесу, недалеко от Богимовки. Ужинал тогда в трактире возле моста, там было дешевле, чем в городе.
Барский дом на пути к мельнице не особо его интересовал, хотя и удивлял размером. Дом выглядел полузаброшенным, ни слуг, ни господ не видать. Только чистые стёкла, да мягкий свет в двух, трёх окнах по вечерам говорили о незаметной, скромной жизни внутри.
Ворота были сломаны и в чугунной ограде во многих местах прутьев не хватало. Поздними вечерами или ранним росистым утром Степан с конём в поводу не стеснялся сокращать путь к дороге через просторный двор наискосок. Если кто и видел его в окно, то не окликал и не прогонял, и вообще никак не проявлял себя.
Когда-то усадьба была богатой. Во дворе он натыкался на остатки бордюров клумб. Проплешины в траве показывали, где раньше были подъезды для карет. Но теперь двор был просто выкошен, да ближе к дому густо посажены кусты сирени.
В конце мая семьдесят девятого года цвела эта сирень на удивление, за бело-розовой пеной – листвы не видно. К мельнице приносило ветерком её томительно сладкий запах, как напоминание об иной райской жизни. Смутные начинали бродить в голове мечты, мешали сон с явью, приводили к отчаянию в конце концов. Почему-то все, что он делал, начинало казаться бессмысленным, пустым и тленным. Подолгу не засыпал Степан, лёжа на старой соломе, на жёстком полоке, глядя через щели в растрёпанной дранке на вечернее небо светлое по летней поре.
Однажды, приехав в сумерках на мельницу и устав вот так не спать, маяться, оставил коня привязанным, а сам пошёл на этот сиреневый дух. Решил размяться, сон скорее сморит с усталости. Выйдя на двор через сломанную ограду, оказался прямо у дома, перед большим кустом розовой сирени.
И впервые за всё время увидел живую душу в этом тихом месте.
Майские сумерки - длинные. В неярком свете хорошо разглядел Степан фигурку маленькую в тёмном платье простого сатина, волосы пушистые по-домашнему убранные и лицо красоты нездешней, слишком нежной для нашего мира. Детское лицо, а выражение уже взрослое, и притягивало оно, и пугало чем-то. Так и стоял Степан, как вкопанный, не в силах глаз отвести, но и шагу вперёд сделать не мог. Хотя никогда раньше с девицами, да и с дамами не робел. Знал он, что был пригож: высок, статен и в лице, как мать говорила, «имел задумчивость», которая барышням нравилась.
Девушка ломала ветки с бело-розовыми гроздьями на букет. Степан слышал треск и шелест. Она увидала его и смотрела не отрываясь. Степан смутился от этого прямого взгляда, как бы застывшего, опустил глаза и сразу ушёл, почти убежал, испугавшись неясно чего.
Много позже он понял, что испугался своей судьбы, её прямого вызова: свернёт он на этой развилке, или пойдёт своей дорогой. Если бы не выходил он больше в барский сад, по другому жизнь сложилась бы; хуже, лучше – неведомо, но не так.
В ту ночь он не спал совсем, думал отрывочно, то о деле, то о доме, то о детстве. Даже бабку свою вспомнил, за которой водилась слава ведьмы.
Наутро ноги сами его вынесли напротив окон с той стороны дома, где накануне встретил он барышню. Стоял там, переминаясь, совсем не знал, что ей скажет и зачем ждёт, но уже не мог её не увидеть.
И она вышла к нему, открыв со звоном высокую стеклянную дверь, протянула узелок со снедью, видать, приняла за бродягу.
Стало обидно, он снял картуз и представился как возможно учтивее. Она продолжала смотреть пристально, так что он поёжился, оставила узелок и скрылась в доме, ни слова не сказав.
Еда пригодилась. Сэкономил на обеде в тот день.Но к барскому дому Степан решил больше не подходить, раз рожей не вышел. И на обратном пути поехал в обход, не через двор, а лесом.
Он даже испугался, когда в еловой глуши, на узкой тропке опять натолкнулся на странную девушку.
Оказалось, она сама искала с ним встречи, увидев из верхнего окна знакомого всадника на дороге.
Барышня назвалась Ириной Фёдоровной Колосовой-Берг. Извинилась, что повела себя невежливо в прошлый раз, и что в дом не приглашает. Отец строг, незнакомых не велел пускать. Прислуга его боится, а её не слушается. Её отец – адмирал в отставке – после отъезда её старшего брата совсем замкнулся, не выезжает и её не отпускает. Она последний раз была в городе зимой, на святках. Раз Степан Игнатьевич купец, так много ездит, наверное. Не рассказал бы он ей, какие новости в округе...
Степан сразу же спешился, когда она с ним заговорила, пошёл рядом. Так они вместе и прошли, гуляя, через сад, с задней стороны дома оказались. Стал он рассказывать про оба города, сам удивился, как много всего произошло, как быстро меняется жизнь вокруг. И он, купец Яковлев, оказывается, способствует этим переменам.
В Затонске провели железную дорогу, построили красивый вокзал. И строится купеческий клуб, пороскошнее офицерского.
Он нашёл крупного дельца, который выкупил у него всю землю в Зареченской слободе, не поскупившись. Уже строятся там каменные торговые ряды, и просторные склады и гостиница будет в четыре этажа. И приезжие иначе не называют это место, как город Зареченск, только старожилы по-прежнему – Зареченской слободой.
А он сам в Затонске, наконец-то выстроил здание фабрики и уже прибыли туда итальянские станы; всё больше он нанимает и обучает рабочих. Для них строит бараки, и дома – для семейных. Целая новая улица выросла, недавно ей дали название – Фабричная. Надо же, он, Степан Яковлев создал улицу в своём городе.
За разговором Степан и забыл, что всё ещё держит в поводу вороного. А тот, как положено, начал с удовольствием объедать сиреневые гроздья вокруг. Степан, когда заметил, задёргал повод, закричал испуганно: «Что ты господские цветы жуёшь, скотина некультурная!»
Ирина, увидев это всё, прыснула и рассмеялась смехом переливчатым, русалочьим.
Мир кругом пошёл, запах сирени, как вино, ударил в голову.
Он наклонился поцеловать её, почувствовал тёплые губы, как вишня нагретая солнцем, но руки, обвившие его шею, были холодны и дрожали; и вся она мелко дрожала. Было это непонятно, а дальше – ещё непонятнее.
После первого поцелуя девушка или прижмётся к тебе покрепче, или убежит в смущении, на худой конец, по морде отвесит. Во всех случаях Степан знал, что делать.
А тут … Ирина отвернулась от него и разрыдалась, закрыв лицо, так, что плечи тряслись, и никак остановиться не могла, словно на всю жизнь хотела наплакаться. А он растерялся, боялся обидеть ещё сильнее словом или прикосновением. И уйти, её так оставить тоже никак нельзя было. Вот и стоял дураком, опустив руки, бормотал невнятно: «Прости… Ничего такого, и я никогда… и обидеть не хотел. И не приду никогда больше».
Вот последнее услышав, она перестала рыдать. Посмотрела на него уже с улыбкой сквозь слёзы: «Зачем же вы, Степан Игнатьевич, девичьих слёз пугаетесь. Девичьи слёзы – вода, батюшка говорит. И почему же вы не придёте больше? Вы же единственный человек, с кем я тут поговорить могу. Не с прислугой же… А батюшка занят всегда. Мне сейчас вернуться нужно, если не приду к ужину, отец осерчает, гулять запретит. Но я ещё выйду ночью, когда звёзды поднимутся. Я знаю, как выйти потихоньку. Вы ждите».
И ведь вышла. Не обманула. И осталась с ним на полночи в каморке мельника.
Рассказывала ему сказки про звёзды, то ли прочитанные, то ли ею же придуманные. Ещё про отца рассказывала, истинного героя, но очень строгого, особенно после того, как её брат женился, родителя не спросив. С тех пор Ирина брата не видела, и даже писем не получала, хотя сама писала ему регулярно. А мать она видала только на портрете, та умерла с рождением Ирины. Рассказывала о пансионе, в котором провела пять лет, где-то далеко, в Швейцарии. Со строгими порядками пансион, но там у неё хотя бы подруги были.
Он же рассказывал ей о шёлке, и о Китае, и о собственной жизни и детстве даже. Такое, что никогда никому не говорил, поэтому слова подбирал с трудом.
Рядом с этой девушкой, при мягком свете керосиновой лампы, освещавшей их убогое пристанище посреди леса, всё по-другому оказывалось, словно напился Степан «Ведьминой воды», о которой слышал от бабки ещё.
«Если в полнолуние, сразу после вечерней зари сорвать по цветку чистотела, крапивы, иван-да-марьи, сложить их в пригоршню, и той пригоршней зачерпнуть воды из-под мельничного колеса, и дать луне отразится в той воде, и так с луной всю пригоршню выпить, то тогда откроется тебе всё, что лес и трава, туман и вода от людей прячут. Подземные реки, заросшие дороги, забытые клады и безымянные могилы. Многое узнаешь, грусть и радость, а вот себя узнавать перестанешь».
* * *
Многое узнал Степан в ту ночь об этой странной девушке. Понял, почему она так расплакалась. Очень одинока была. Не только этот поцелуй был у неё первым, но и родительской ласки она не знала, раз матери не было, а отец так суров. Страшно было за неё и жалко бесконечно. Но и счастлив он был рядом с Ириной. Напрочь забывал о делах. Вообще ни о чем не думал, только смотрел: вот она повернулась, вот улыбается, а сейчас задумалась, брови нахмурились.
И сказки её ему нравились.
И уже каждый вечер торопился Степан к саду у молчаливого дома, на тёмную мельницу, чтобы окунуться в лиловый морок душных сумерек, в колдовской взгляд, ласковый шёпот.
Туман за оконцем полнился оборотнями и лешими, русалки пели вместе с лягушками в запруде и вечно шуршали кусты сирени на холме у дома, где всегда навещал их ночной ветер.
И грустно и радостно было рядом с Ириной. И себя он переставал узнавать, пока утреннее солнце не возвращало его в кипучесть жизни.
Чувствовал ли он вину перед женой? Да вроде и нет. Словно случилось у него две жизни: одна обыкновенная – дела, семья, заботы и радости; и другая – невозможная, ему одному ведомая, как волшебный сон. А снов не стыдятся.
Но всё сильнее овладевал им этот сон, всё реже бывал он дома, всё меньше думал о фабрике. И решил уже было бросить всё, и торговлю, и дело своё только начатое; умыкнуть свою любовь – до вокзала на тройке, а там до Москвы, оттуда – до Царицына по новой чугунке, а то и в самую Сибирь. Кто их найдёт, Россия большая.
Может быть и сорвался бы так; как оно бывает с русским человеком, что переломит он свою жизнь надвое, а там – или уж сопьется до убогого состояния, или изменится так, что на себя прежнего будет смотреть, как на чужого.
Но бог уберёг, послал несчастье.
* * *
Уже в августе, в холодные сумерки, когда начинало подмораживать по ночам, после недельной отлучки возвращался Степан в Затонск уставший и продрогший, и уже у дома заметил неладное: не было в окнах привычного тёплого света. Только окно спальни светилось тревожными отблесками.
Дверь открыл старший шурин, раздражённо процедил «Где тебя носит!» и скорым шагом ушёл вглубь дома.
В комнатах не прибрано, сквозняки, слуг не видно. Дети, напуганные затаились у себя, даже огня им никто не принёс. В малой гостиной шурин с двумя незнакомцами пили коньяк. Увидев открытый докторский саквояж, Степан всё понял, кинулся в спальню.Там пахло ладаном, бубнил священник, толпились какие-то женщины. Катю уже соборовали.
Он кинулся к врачам. Старший, седенький поднялся ему навстречу, развёл руками, потом взял его за плечо: «Крепитесь, голубчик. Все под богом…»
Степан бросился в коридор, потому что сам не знал, что сейчас может сотворить, с докторами, с шурином, сам с собой.
Но тут сзади другой доктор, помоложе и толстый, дотронулся до его руки: «Внутреннее воспаление, обычно смертельно, но в Москве ученик Пирогова делал такие операции… Я полагаю, один день ещё есть».
И тогда Степан Яковлев зарычал почти по-звериному на весь дом: «Агапка, запрягай!», не глядя, растолкал всех в спальне, завернув жену в одеяло, схватил на руки и как есть понёс на крыльцо. Шурин заступил дорогу, но Степана в ту минуту ничто не могло остановить. Горничная догадалась захватить подушки и шубу.
Всю дорогу он сам нахлёстывал лошадей. Они успели на последний поезд в Москву.
Только в вагоне Степан заметил, что толстый доктор тоже едет с ними.
Утром именно этот доктор, Александр Францевич, показывал извозчику, как короче проехать к Голицынской больнице, разговаривал с хирургом и держал Степана за руку; пока тот неподвижно сидел в приёмной, глядя и ничего не видя перед собой.
К вечеру всё решилось.
Операция была успешной, но Кате нужно было долго восстанавливаться. Сначала – в больнице, не меньше месяца, потом, желательно за границей, на водах, под присмотром европейских врачей.
Тогда, Степан Игнатьевич Яковлев, самостоятельный человек тридцати пяти лет, отец двоих детей, плакал в открытую, и всё просил за что-то прощения, а добрый Александр Францевич утешал его, мудро отвечая: «Бог простит».
Именно Александр Францевич потом посоветовал Карлсбад, переписывался и договаривался с немецким профессором, подготовил все медицинские документы на немецком опять же. Супруга старшего Катиного дяди взяла на себя хлопоты о деньгах и паспорте. Она же позаботилась о том, чтобы детей Яковлевых перевезли в Москву. Перед отъездом за границу нашла камердинера и горничную со знанием немецкого.
Конечно, Степан посчитал всё случившееся предупреждением свыше. Чувствовал и стыд, и глубокую вину перед женой и перед детьми, чуть не осиротевшими. Поэтому о Богимовке, и обо всём, что там происходило, заставил себя не думать. Всё внимание и заботу направлял он теперь на Катю. Да и детей, как будто заново увидел. Живя в Москве, и особенно – за границей, он оказался далеко от своего дела, само собой семья вышла на первое место.
* * *
Карлсбад показался маленьким, как будто игрушечным городком, особенно после раздольной Москвы.
Прибыли они туда с детьми и со слугами. Оказалось, что таких семейств там много.
После закрытия в Карлсбаде казино, этот прежде аристократичный курорт, где отдыхали члены королевских домов Европы, стал очень буржуазным, благопристойным и скучным. Но дороговизна сохранялась прежняя.
Про деньги Яковлев думать перестал. Катина пенсия поступала исправно, её отец иногда переводил что-то «на булавки» в подарок. Прибыль от предприятий Яковлева шурин тоже переводил, но сумма с каждым месяцем уменьшалась. И то сказать, имея собственное дело, не обязан был он проверять отчёты управляющего, выручку приказчиков, искать выгодные контракты для Яковлевой фабрики, тем более что от шёлка и от ткачества был далёк.
Про себя Степан Игнатьевич уже смирился с мыслью о разорении думая, что, в крайнем случае, всегда сможет наняться управляющим к кому-нибудь из родственников жены. Но его деятельная натура и природное любопытство не позволили тому случиться.
Пока Катя была слаба, Степан почти не оставлял её одну, только на водные процедуры. Врачи рекомендовали прогулки по парку. Если они заходили слишком далеко, и на обратный путь ей не хватало сил, Степан, не стесняясь, брал её на руки и доносил до ближайшего извозчика.
“Этот русский коммерсант так трогательно заботится о своей жене”, - судачили чопорные немки и шведки, и искоса поглядывали на своих толстых мужей.
На себя Степан махнул рукой совсем, а ей ни в чём не отказывал. Однажды, Катя сама привела его к портному, чтобы он заказал пару модных костюмов, потому что его принимают «не за супруга очаровательной мадам «Яковлефф», а за её слугу».
Она, в самом деле, стала очаровательной, когда окрепла. Похудела, ей пришлось заказывать новый гардероб. В изящных платьях, легко разговаривая на французском, Катя выглядела совершенно по-европейски. Мужчины стали задерживать на ней взгляд.
Всё та же Катина тётка нашла приличный пансион для Андрея, чтобы подготовить его к коммерческому училищу. Для Саши наняли гувернантку. У супругов, неожиданно, оказалось много свободного времени. Словно наступил тот самый медовый месяц, который они так и не отгуляли без малого пятнадцать лет назад. Они выглядели приятной парой, их стали приглашать соседи по гостинице к обеду или к ужину, на небольшие вечеринки в ресторане.
Степан вслушивался в разговоры, слова «Finanzen, Debit, Kredit, Aktiva…» звучали узнаваемо в иностранной речи, беспокоили и волновали.
Он заставил себя выучить французский и немецкий. Не блестяще, конечно, но достаточно, чтобы завести полезные знакомства среди отдыхающих, по преимуществу из торговых или банковских кругов, иногда очень высокого уровня.
Степан начал читать иностранные газеты типа «Биржевых ведомостей» и пользовался любым удобным случаем, чтобы поговорить про экономику. Его заинтересованность, трезвое мышление, меткие замечания, и конечно же, обаяние его супруги, сделали семейство «Яковлефф» популярным на курорте.
После того, как Катя написала домой, что «они обедали с братьями Фергусси» или «были на юбилее господина Бламберга», интонация ответных писем стала заметно почтительней.
Катя захотела путешествий, раз уж они в Европе. Почему бы не съездить в Вену? А потом – в Дрезден? До прекрасной Италии тоже не так уж далеко. На обратном пути можно заехать в Париж, там - Всемирная выставка.
Степан Игнатьевич был на всё согласен. Ходил с женой по музеям и в оперу, прислушивался к знатокам искусства. Сначала, чтобы не выглядеть совсем уж дикарём среди европейских коллег, прилично поддерживать разговор, но потом проникся, искренне заинтересовался живописью, что очень помогло ему впоследствии наладить отношения с Щукиным и братьями Морозовыми и окончательно упрочило его положение среди элиты российских капиталистов.
Путешествия требовали денег, но и с этим всё наладилось, когда Яковлев нашёл необыкновенно дельного помощника.
Белецкий сам обратился к нему, респектабельному соотечественнику, попросил поспособствовать возвращению на родину. Он застрял в Карлсбаде, работая секретарём у какого-то пустоголового князя. Тот был весь в долгах, разорился вконец, советов своего секретаря не слушал и жалованья не платил. Пока красавчик князь приноровился обедать по гостям, его секретарь жил впроголодь. Яковлев чутьем угадал в этом скромном, невзрачном человеке талант управляющего и сразу предложил ему эту должность у себя в Затонске. Белецкий согласился с радостью, и уже через два месяца Степан Игнатьевич получил отчет о повышении доходов.
Дела пошли, как по маслу.
Поэтому, когда Степан узнал о Катиной беременности, решил остаться в Европе ещё на год-полтора, чтобы уж наверняка все у неё прошло благополучно.
* * *
По возвращении в Москву, Яковлевых встретил неожиданно радушный и почтительный приём во всём клане Корзинкиных. За семейным столом глава клана усадил его рядом, благодарил за заботу о Кате, спрашивал не о детях, а о делах. Шурин, тот самый, что шипел на него в Затонске, выдал толстую папку отчётов, кланялся, как приказчик. К Степану Игнатьевичу прислушивались, спрашивали совета, даже заискивали. Друзья Корзинкиных стали искать с ним знакомства. Главное, все наперебой предлагали ему деньги, и в кредит и просто так (хотя, это самый кабальный кредит, как известно).
Оказалось, что молодой провинциальный купец, даже не первой и не второй гильдии, имеет нечто чрезвычайно важное и прибыльное: репутацию человека со связями.
Степан Игнатьевич с грустью смотрел на это общество, чьё могущество пять лет назад казалось недостижимым для него. Он себя чувствовал гораздо опытнее и умнее всех этих купцов с окладистыми бородами, степенных, традиционных, непререкаемых. Но таких наивных, по сравнению с зубрами европейских торговых домов, которых он успел узнать и понять, как оказывается, очень хорошо. Так же хорошо он понял сложные законы биржевого рынка, законы соотношения размера прибыли и скорости оборота капитала, влияние достойной конкуренции на положительную репутацию, и в свою очередь, влияние репутации на кредитоспособность. С практической смёткой, не формально, он начал применять эти знания. Бесстрашно набрал кредитов, отстроил и оборудовал свою фабрику по последнему слову техники, продал лавки и основал магазин в Москве. Отдал долги, тут же набрал ещё кредитов, уже в Петербурге вошёл в долю владения жаккардовой фабрикой, удачно сыграл на бирже, выкупил питерскую фабрику целиком, и так далее, не останавливаясь.
В России Яковлев развернулся стремительно. Через два года уже в Париже выбирал дом для собственного магазина.
Теперь его положение было прочным, жизнь – интересной, такой как он мечтал. Была жена, которая поддерживала, дети, которые радовали, друзья – уважали, конкуренты и враги – бодрили, внося остроту азарта в его размеренную жизнь.
А тот сиреневый морок, который чуть не лишил его всего этого, Яковлев приказал себе забыть, и забыл, будто не было.
Вернувшись в Затонск, он узнал о смерти Ирины Колосовой случайно, не захотел даже искать могилу, и когда приходилось проезжать по дороге в Зареченск, уже на своей паре в новой коляске, отворачивался, чтобы не видеть мрачного дома на холме.
И запах сирени с тех пор не любил.
* * *
Бой часов,отсчитавших пять вечера заставил Яковлева очнуться. Пора было действовать, достаточно размышлений. Он вызвал Белецкого и, вручив ему фотокарточку, велел тайно отправить кого-нибудь в Богимовку, чтобы выяснить про мальчика все что можно.
Но Белецкий вернулся через два часа, и был крайне встревожен. Никто из прежних исполнителей, даже те, кто раньше сам спрашивал «нет ли какого порученьица», не только не соглашались, а сторонились управляющего, как от прокажённого отворачивались, переходили на другую сторону улицы. Что-то случилось нехорошее, возможно – опасное. Это ж – фартовые. Надо бы поостеречься Степану Игнатьевичу. А уж задание его даже и не ясно кому теперь поручить. Сам бы поехал, но тайну соблюсти затруднительно будет. Все знают, что Белецкий – управляющий Яковлева.
Степан Игнатьевич выслушал внимательно. Подумал, улыбнулся:
– Найдите Греля.
Это было случайное, забавное и очень ценное приобретение коммерсанта.
Однажды, принимал Яковлев сырьё с баржи на Зареченской пристани. Когда все тюки с шелковичными коконами перегрузили на подводы, матросы, подхихикивая, вытолкнули вперёд нелепого бритого подростка в синей блузе и холщовых штанах, а капитан хмуро пояснил: «Вот это вот, тоже ваше, забирайте».
Оказалось, когда в Астрахани баржу загружали с каравана, пришедшего из Ханджо, один из тюков с грелью (так называют шёлк-сырец) порвался, и в нём среди коконов обнаружился этот китайчонок. Молодой парень или подросток, у китайцев на глаз не определишь.
Как он туда попал, почему наотрез отказывался вернуться к каравану для отправки в Китай, осталось тайной. Капитан справедливо рассудил, раз китаец был в тюке, принадлежавшем Яковлеву, то владельцу и разбираться. Дорога в Зареченск парню оплачена, а еду пускай отработает на камбузе.
На барже его имя – Ли Сяо Лунь – матросы произносить ленились и звали китайца – Грель.
Степан Игнатьевич толком не знал, что делать с этим подарком судьбы, оставил паренька жить при своей конюшне, пока тот не выучит русский. И выправил ему паспорт, воспользовавшись дружбой с губернатором.
Сяо Лунь русский выучил за год и очень хорошо, но говорить не любил, обходился мимикой и знаками. А паспорт неожиданно вызвал у него тихий восторг и бесконечную благодарность Яковлеву.
Китаец обладал двумя талантами. Во-первых, он необъяснимо ловко прятался. Даже в ровно-заснеженном поле, он мог мгновенно исчезнуть, потом появиться, отряхиваясь от снега, из никому неизвестной ямы.
Во-вторых, Сяо Лунь умел подражать кому угодно, буквально превращаться. Яковлев наблюдал, как однажды в трактире он, перекинув салфетку через руку, пошёл развинченной походкой, взяв поднос на три пальца, начал принимать заказы, прятать чаевые за пояс. Даже трактирщик был убеждён, что этот узкоглазый парень работает у него давно, не хотел отпускать, и не поверил, что тот – китаец. Сказал: «так только наши могут».
Понятно, что он очень быстро осваивал любое ремесло и в доме выполнял самую разную работу; мог заменить конюха, садовника, повара и прочее по мелочи.
Однажды Сяо Лунь пришёл к Яковлеву в кабинет вместе с милой девушкой, поклонился в пояс по-русски и попросил отпустить жить своим домом, так как намерен жениться. Конечно, Яковлев отпустил и благословил, не крепостной же, хоть и жаль было.
Иногда коммерсант обращался к нему через Белецкого с просьбой последить за тем или другим конкурентом. В таком деле китайцу равных не было, и в преданности его сомневаться не приходилось. Только денег за услуги с Яковлева Сяо Лунь никогда не брал, так что Степан Игнатьевич старался не злоупотреблять.
В ожидании помощника Яковлев распорядился по дому. О защите семьи подумать надо было в первую очередь.
Собрал всю прислугу, настрого приказал ни в дом, ни во двор никого не пускать, кроме родственников хозяев, на ночь спускать собак, без особой надобности на улицу вообще не выходить, обходиться запасами до особых распоряжений. Дворецкого отправил к черному выходу, за прислугой приглядывать, а у парадного решил поставить Греля. С этой ролью тот справится несомненно, и ещё один верный человек в доме не лишний, пока всё не разъяснится.
Вечером после ужина вернулся Белецкий, сообщил, что Грель уже уехал в Богимовку, обещал утром о мальчике подробный доклад предоставить. Тогда же городовой принёс записку от Штольмана с просьбой принять его завтра после обеда.
Последнее было кстати.
* * *
Как и обещал, Грель пришёл рано утром. Ещё до завтрака Яковлев узнал, что мальчик на фотокарточке - Степан Пескарёв, девяти лет. В деревне никто не сомневается, что он сын Семёна и Аграфены Пескарёвых. Только вот этот мальчик пропал три дня назад, но полиция его уже ищет. И ещё, Грель заметил возле большого барского дома в Богимовке нескольких фартовых, причём и из Затонска, и Зареченских. Под видом рабочих что-то они делали в доме.
Пропажа мальчика с фотографии и возможная причастность к этому фартовых наводили на определённые мысли, так что Степан Игнатьевич не удивился, увидев в утренней почте серый конверт похожий на вчерашний, странно только, что – с Затонским штемпелем. Внутри было короткое письмо, написано карандашом на дешёвой бумаге.
«Мальчишка у нас. Я уверен, ты понял, кто он. Приготовь пять тысяч ассигнациями, иначе ему не жить. Не вздумай обращаться в полицию. Мы об этом узнаем, и мальчишке конец. Мы знаем обо всём, что происходит в участке. Как твой сын там редактора мутузил, и печатной мокрицей обзывал, к примеру. Не пытайся меня обмануть.
Сегодня вечером принеси деньги на вокзал к последнему поезду на Москву. Встань посередине перрона.К тебе подойдут сразу, как подойдёт поезд. Будь один. Сделаешь всё как надо, получишь парня целым»
Без подписи и без обратного адреса. Хоть и ожидал Степан чего-то подобного, но чувство растерянности и отчаяния на несколько минут овладело им. В таких случаях следует повременить, успокоиться, чтобы решать все взвешенно.
Самое лучшее, поговорить с женой.
Но, как раз с женой говорить на эту тему затруднительно. Может быть – после, когда он решит, как всё это объяснить Кате.
С кем посоветоваться… Белецкий – прекрасный исполнитель, но выбор всегда оставлял за хозяином.
«А если это не мой сын? Доказательств никаких, кроме того, что похож слегка, и время, когда родился. Но мало ли рождается детей в одно время.
Со Штольманом переговорить… Попросить помочь…Но, что он ему скажет: «фартовые отказываются со мной сотрудничать, и теперь ещё шантажируют меня жизнью сына моей любовницы».
Некрасиво выходит. Особенно после недавнего случая с Женей.
Заплатить выкуп, или оставить все как есть, просто выбросить письмо.
А потом обнаружить у ворот труп ребенка. И какая будет разница, чей он сын.
Что они там задумали? Зареченские объединились с Затонскими? Маловероятно».
Яковлев перечитал письмо.
«Странно, всюду написано «мы», «нас», но в одном месте – «меня». Невольная оговорка? Может быть, это один мошенник, и фартовые тут не причем? Нет, надо самому разобраться, в полицию обратиться всегда успеется».
Все эти тревожные мысли Яковлев перебирал в уме, пока обходил дом проверяя, всё ли идёт как он распорядился, пока говорил с Белецким и опять занимался счетами.
К обеду пришёл Андрей. Степан Игнатьевич расспросил его осторожно:
– Ты, оказывается, не только в городе, но и в участке бузить продолжал?
Андрей потупился, пожал плечами.
– «Мокрица печатная» сам придумал?
Андрей кивнул смущённо.
– Я тебя с обозами за делом посылал, а ты только ругаться выучился. Если себя держать в руках не умеешь, как будешь другими управлять? Тем более, что дело с этими слухами мутное, и оно скорее меня касается. Может поживаешь у нас, пока не разъяснится всё?
– Какой смысл? Я дома почти не бываю. Днём – с подрядчиками, ночью – с управляющим.
Степан Игнатьевич вспомнил себя молодого и настаивать не стал.
«В Затонском участке действительно кто-то свой есть у шантажиста, значит Штольману сообщать не следует. Он, конечно, человек порядочный, но и – законник. По прошлому делу это ясно было. Да и подневольный, как-никак – надворный советник. Кому-то обязан будет доложить… Нет, сам заварил кашу, самому и расхлёбывать».
Яковлев принял решение и сразу отправил Белецкого за деньгами.
Пришёл Штольман. Разговор с ним вышел коротким, как и ожидалось. Тот явно хотел что-то разузнать, положение на фабрике было только предлогом для визита.
Но про мальчика Штольман не спросил.
«Значит не знает. Да и откуда, если я сам только вчера узнал о его существовании. Но, как он странно на Сашу посмотрел. Ах да, теперь уж точно догадался… или нет…»
Вот эти сомнения и подтолкнули Яковлева намекнуть полицейскому на обстоятельства в Богимовке в самый последний момент.
Мысленно он был уже на вокзале, пытался представить себе, как это всё произойдет.
Грель уехал заранее, чтобы оглядеться на месте и подготовиться. Его участие успокаивало, хотя никогда ещё не приходилось им действовать сообща при опасности.
Опасность… насколько оно опасно? Яковлев открыл сейф, достал пистолет. Офицерский, капсюльный. Приобрел в семидесятых ещё, но стрелять так и не пришлось, слава богу. Как-то всегда кулаками или оглоблей обходился в трудных положениях. Позвал камердинера, велел достать «парижское» пальто. Носил его только в Европе, оно не для российских морозов, а летом и в сюртуке жарко. Но в нём были глубокие карманы, так что пистолет легко помещался и был незаметен.
Оружие проверил, перезарядил, думал – разобрать и смазать, но не стал.
«Это – на самый крайний случай». И, тоже «на крайний случай»; письмо шантажиста и карточку со Степой запечатал в конверт и отдал Белецкому, наказав: если он не вернётся до двух ночи, заявить в полицию и отдать им это, лучше – Штольману.
Последний час перед выходом Яковлев провёл с французским журналом, наконец-то его распечатав.
Потому что всё предвидеть невозможно, от судьбы не уйдешь, и все равно придется действовать по обстоятельствам, на месте.
* * *
Яковлев стоял на перроне в сумерках, в одной руке держа саквояж с деньгами, другой – сжимая рукоять пистолета в кармане пальто.
Особенно яркий, малиново-оранжевый закат растекался по небу там, где рельсы соединялись в точку.
Дощатый перрон был пуст. Одиннадцатичасовой поезд на Москву стоял тут три минуты, на него редко садились обстоятельные провинциалы.
Несколько носильщиков со своими тележками собрались кучкой под навесом, да запоздалый пьяненький охотник тщетно стучался в стеклянную дверь закрытого буфета.
Греля не было видно, но коммерсант был уверен: он где-то неподалёку, наблюдает незаметно.
На горизонте показался столб дыма, чуть погодя пришёл тяжёлый шум поезда. Он всё нарастал, потом его перекрыл громкий свист. Поезд прибывал, замедляясь, стена из вагонов перегородила обзор. Носильщики лениво расходились вдоль платформы – в этот поздний час большого числа пассажиров с багажом не ожидалось.
Яковлев вплотную подошёл к составу, чтобы увидеть всех, кто сходил. Из дальнего зелёного вагона вышли двое мужиков, из ближнего жёлтого – один инженер с портфелем подмышкой. По направлению к нему носильщик торопливо катил тележку.
Кто-то сзади схватился за ручку саквояжа. Яковлев резко обернулся, не отпуская:
– Где мальчик? – крикнул он прямо в лицо незнакомца, тянувшего саквояж к себе.
Странный взгляд без выражения, помятая шляпа и бесформенное лицо.
– А, вон он, - хрипло ответил незнакомец, кивнув в сторону носильщика. Тот остановился в двух шагах, на его тележке что-то лежало, прикрытое рогожей. Яковлев подошёл, отпустив саквояж, откинул край рогожи. Увидел ноги в сапогах. Откинул с другой стороны, там – крепко зажмурившееся, веснушчатое лицо парня лет пятнадцати, не имевшее ничего общего с мальчиком на фотокарточке.
– Ты что, дурить меня вздумал, – выкрикнул коммерсант, вынимая пистолет.
Незнакомец с его саквояжем уже взбирался на подножку вагона, который медленно набирал скорость. Яковлев прицелился в ногу, нажал курок – осечка.
И в этот момент ему всё перекрыло тьмой, в нос ударил запах гнилой картошки, и последнее, что почувствовал Степан Яковлев, был мягкий, но тяжёлый удар по затылку.
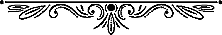
Следующая глава Содержание




