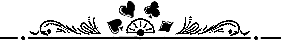
Цыганка

Дневной свет едва пробивался сквозь низкие, лохматые облака. Привокзальная площадь Затонска, должно быть, и в хорошую погоду не радовала буйством красок, а сейчас выглядела и вовсе уныло. Грязный снег вперемешку с соломой и прочим мусором, голосящие коробейники с кособокими лотками, замотанные в лохмотья нищие… Никогда не любил Михаил Модестович провинцию, хотя бы и сам родился и вырос в похожем городишке. А может, именно поэтому.
Немногочисленная чистая публика, сошедшая с московского поезда, устремилась к выстроившимся чуть в стороне извозчичьим пролёткам. Отставной сыщик Кривошеин повернул было туда же, но тут где-то сбоку, среди блёкло-серого привокзального уныния, сверкнул алый сполох, заставив его обернуться.
В нескольких шагах от него, оценивающе присматриваясь к проходящим мимо и белозубо улыбаясь, стояла молодая цыганка в пестрой шали. Красивая, яркая – точно рубиновая капля крови на стылом перемёрзшем снегу. Перехватив взгляд Михаила Модестовича, девица тут же заулыбалась шире и направилась к нему.
– Драгоценный мой, дай руку, погадаю на дорожку, все скажу, что будет, что было!
Взгляд черных с поволокой глаз скользнул по нему оценивающе, не пропустив ни трости с громоздким золочёным набалдашником, ни богатой, с искрой, шапки, ни долгополой бобровой шубы. Михаил Модестович приостановился, внутренне усмехаясь, и приободрённая цыганка затараторила, явно надеясь на хорошую поживу:
– Ничего от меня не скроется! Будет тебе правда ясная, будет тебе удача большая! Дай руку, барин!
Побеседовать с кем-то из бродячей братии было вовсе нелишним, он всё одно собирался это сделать, почему бы и не сейчас? На ловца и зверь бежит. Девица, похоже, не первый день тут ошивается, а цыгане обычно в курсе того, что творится в местах их промысла.
Кривошеин неторопливо снял перчатку и молча протянул затонской Кассандре правую руку. Та сверкнула зубами.
– А ручку позолотить сперва? Чтобы лучше счастье виделось?
Михаил Модестович, усмехнувшись уже открыто, положил на маленькую, грязноватую ладонь серебряный рубль. Глаза у цыганки загорелись.
– Ай, добрый барин, щедрый барин! – рубль как по мановению ока исчез с ладони девушки и пропал где-то в ворохе линялых красных юбок. – Ну, счастье тебе будет, долго жить будешь, хорошо жить будешь!
Гадалка цепко ухватилась за протянутую ей руку, многозначительно вглядываясь в линии на ладони. Странно даже, что она здесь одна, обычно на вокзалах подобные девицы табунами налетают: одна судьбу предсказывает, остальные норовят чемодан умыкнуть… Кривошеин усмехнулся краешком губ, ожидая уже услышать известный шарлатанский набор, мешанину из дальней дороги и нежданной встречи, приправленную неизменной сердечной раной, но взгляд девушки внезапно замер – и медленно переместился на лицо отставного следователя.
Предсказательница больше не улыбалась. Кривошеин насторожился: нюх у подобной публики всегда был отменный. Догадалась красавица, что налетела на фараона?
– Что же ты молчишь, яхонтовая? – негромко спросил Кривошеин. – Какая судьба меня ждёт?
Девушка вдруг отчаянно замотала головой.
– С такими, как ты, о судьбе не говорят! – выпалила она, пытаясь отбросить от себя его ладонь, но Кривошеин успел среагировать чуть раньше. Пальцы бывшего сыщика кольцом сжались на хрупком запястье, и девица замерла, глядя на него с испугом.
Значит, не говорят? Похоже, молодая гадалка оказалась из настоящих. Из тех, кто действительно видит – и верит в то, что видит…
Нет, не полицейского она в нём разглядела – другую, скрытую суть, до которой все эти годы тщетно пытался докопаться любознательный полковник Варфоломеев.
– Отпусти! – цыганка вдруг зашипела, как кошка. – Ты… Ты зачем ко мне пришёл?!
Любопытный городишко. Первая же привокзальная бродячая гадалка ухитрилась заглянуть под все его маски. Пожалуй, это можно использовать, врать она ему вряд ли станет, побоится. Главное, не напугать слишком сильно. Не начала бы шум поднимать… Михаил Модестович незаметно огляделся: извозчики разъезжались, пассажиры с московского поезда рассасывались по близлежащим улицам. Прочий народ на привокзальной площади занят был своими привычными делами, даже обязательный в таком месте городовой отсутствовал. Никому дела не было до пожилого барина, которого охмуряла бойкая цыганка.
– Разве это я пришёл? Нет, это ты ко мне пришла. И деньги мои сама попросила. Деньги взяла, а гадать не хочешь.
Кривошеин вздохнул разочарованно и выпустил руку девушки. Цыганка, открывшая уже было рот, чтобы кричать, захлопнула его со стуком.
– Я отдам… – забормотала она, неловко шаря рукой в складках одежды. Михаил Модестович снова вздохнул и небрежно махнул рукой.
– Оставь себе. Нэ дар, пхэнэ! Я человек прохожий, как пришёл, так и уйду, и судьба моя со мной.
Девица перестала судорожно копаться в платках и юбках и недоверчиво прищурилась.
– А зачем тогда согласился – раз сам всё про себя знаешь?
Кривошеин улыбнулся обезоруживающе.
– Хотел поговорить с хорошей девушкой, расспросить, что здесь и как, город мне ваш новый. Думал, наплетёшь мне про червонную любовь да бубновый фарт, сама повеселишься, я посмеюсь… А ты и впрямь видящая оказалась!
Цыганка сердито фыркнула.
– Не льсти мне, барин, – произнесла она хрипло. – Я глупая еще, не распознала. Такого, как ты, не каждый день встретишь, иным счастливчикам за всю жизнь не доведётся! А истинная драборовкиня тебя бы с другого конца площади учуяла.
– Думаешь, сразу сбежала бы? Неужели я такой страшный? – весело спросил Кривошеин. – А вдруг наоборот? Ты подумай, а если это твой собственный дар тебя ко мне толкнул? Ты ведь тоже, выходит, не из тех, кто попусту головы дуракам морочит. Ты одарённая, я тоже – так отчего бы нам просто не поговорить?
Михаил Модестович мог быть очень обаятельным, когда хотел. Молодая цыганка продолжала смотреть на него пристально, но уже без большого страха: причислив девчонку к знающим, он ей определённо польстил.
– Сыр тут кхарэн, пхэнэ? – промурлыкал Кривошеин почти по-дружески. Гадалка помолчала немного, затем выпрямилась, плотнее кутаясь в цветастую шаль.
– Симза меня зовут. Давай поговорим, если хочешь. Деньги твои я и впрямь взяла, значит, и уговор выполнять должна. Только про судьбу больше не спрашивай, её ты и сам знаешь, – она глянула на него с вызовом. – Ты, барин, может, и не страшный, да вот знаки на руке у тебя дурные.
Отставной сыщик почувствовал, как кольнуло где-то глубоко внутри, но остался невозмутим, только усмехнулся и принялся нарочито медленно натягивать перчатку.
– Не меня тебе нужно бояться, – покачал он головой. – Есть людишки и пострашнее. Вот те, например, кто у вас в городке нищих убивает. Расскажешь мне про них?
Симза распахнула глаза испуганно и удивлённо. Кажется, такого вопроса она не ожидала.
– А что я про них рассказать могу? Не знаю я ничего! – выпалила она заученно.
Мышка, не думая, кинулась в привычную норку – где никто ничего не видел, никто ничего не знает. И все договорённости были сразу забыты. Улыбка бывшего полицейского сделалась жёсткой.
– Знаешь. Уверен, что знаешь. Не ты, так кто-то из ваших. Вы, рома, друг за дружку держитесь. А тут в городке бродяжек убивают, а ты в одиночку бегаешь, и никого из ваших даже рядом нет. Выходит, не боишься. Так?
Кровь внезапно отхлынула от смуглого лица девушки, враз побледневшие губы задрожали. Симза шарахнулась, явно намереваясь опрометью кинуться прочь, но Михаил Модестович ей такого шанса не дал – массивный набалдашник трости взлетел в воздух, цепляя беглянку чуть повыше локтя.
– Мы не договорили.
Молодая гадалка застыла, снова глядя на него с ужасом. Отставной сыщик поморщился и медленно убрал трость.
– Я не с ними, если ты этого боишься, – произнёс он веско и негромко. – По следам их иду, но я не из них. У тебя ведь дар, пхэнэ, ты это сама видеть должна.
Страх, охвативший девчонку, уже сказал ему о многом. Знала она про убийц, знала, похоже, и про то, что у сборища головорезов, охотящихся на бродяг, была и иная, потаённая сторона. Поверит она или нет, что странный барин не из их числа? Впрочем, если и сбежит – ничего страшного. У него всегда есть кого спросить.
Точно подслушав его мысли, в ребро Михаила Модестовича упёрся резной футляр, упрятанный во внутренний карман пиджака.
– Другой ты и впрямь, – внезапно произнесла цыганка низким и звучным голосом. Страх из её глаз постепенно уходил. – По грани ходишь, с запретным знаешься. Печать его на тебе стоит, – девушка кинула быстрый взгляд на его руку. – А тьмы в тебе не вижу. Вот в тех, про которых ты спрашиваешь, точно тьма была. Старики сразу поняли.
Кривошеин медленно кивнул. Среди цыган такие понятливые не редкость.
– Вот и расскажи про это, – осторожно попросил он. Симза пожала плечами.
– Да что рассказывать? Дело прошлое уже. Да и нас они не трогали. У любого рома кибитка есть, родные есть и защита есть. А эти… они ведь простых бродяжек убивали, нищих, кто и так в страхе живёт. За кого вступиться некому.
– Многих убили?
– Многих, – кивнула девушка, совсем уже успокоившаяся. – Нищих часто убивают, просто мало кто про это говорит. Те из рома, кто с фартовыми знается, тоже поначалу твердили, что кто-то Сыча с его артелью из города выжить решил, место занять. Но иные сразу поняли, что дело хуже. Нечистый с ними пришёл, с убийцами этими.
Цыганка осеклась и торопливо оглянулась по сторонам. Что-то пробормотав, сплюнула сквозь зубы направо и налево – и только потом продолжила:
– Есть у нас старая Сагануш, что сто лет на свете живёт, многое видела, многое знает, что от других скрыто, мы её слушаем. Она и не велела нам с сёстрами в Затонск ходить. «Попадёте, – сказала, – прямиком чёрту в лапы!» Так мы с самого Николина дня в Зареченске оставались.
Николин день – шестое декабря. Первое убийство в Затонске, если верить полицейским сводкам, случилось позднее, но Магистр вполне мог заявиться в городок заранее. Не его ли появление учуяла старая цыганская ворожея? И что изменилось с тех пор?
– Выходит, теперь рома в Затонск вернулись? – негромко спросил Кривошеин. – Раз ты здесь? Разрешила вам ваша старшая?
– На Игната-яблочника Сагануш сказала, что бояться нечего. Может, фасоль кидала, может, карты ей подсказали. Она – шувани, сильная, – во взгляде молодой гадалки определённо скользнуло превосходство. – Сильнее тебя.
Михаил Модестович усмехнулся про себя. Жизнь он прожил долгую и про цыганское колдовство мог бы не одну лекцию прочесть. Может, карты подсказали. А может, правильные люди на ухо шепнули… Впрочем, все версии происходящего – как потусторонние, так и земные, можно будет обдумать позже. Самое время прояснить еще один вопрос.
– Нечего, значит, бояться? Ну, а спиритка ваша как же? – с самым простодушным видом спросил Кривошеин.
– Ты про кого это? – нахмурилась Симза.
– Да вот, в газетах пишут, – пожал плечами Михаил Модестович. – Что есть у вас тут дамочка из благородных, что с мёртвыми якшается, с дьяволом у неё шашни, и всё зло в городе от неё. А ты говоришь – всё пришлые!
– Ах, они… – зашипела вдруг Симза и, топнув ногой, выругалась сквозь зубы по-цыгански.
– Будь они прокляты, писаки поганые!
– Врут, значит? – делано удивился Кривошеин. – Нет у вас в городе духовидицы?
Цыганка посмотрела на него яростно.
– Есть у нас духовидица. Но с дьяволом она не знается. Да чтоб у этих врунов газетных языки поотсыхали!
– Знаешь её? – с любопытством спросил Михаил Модестович.
– Я – нет, но наши знают, – отчеканила Симза, – Помогала им барышня эта. И другим помогала, я про то слышала. Дар у неё настоящий, тяжёлый дар, а сама она – светлая душа. Ты сплетников не слушай. Нет в ней зла! Встретился бы с ней – сам бы увидел, да вот только, говорят, из дому она больше не выходит. Горе у неё большое, любимый пропал. Полицейский он был.
– Работа опасная, – понимающе пробормотал Михаил Модестович.
О ком идёт речь, он догадался сразу. Значит, за дни, прошедшие после отъезда Варфоломеева, его исчезнувший агент, он же старший затонский следователь, так и не отыскался, что не удивительно… Удивило Кривошеина другое – искреннее сочувствие в голосе Симзы. Обычно цыгане законников не жалуют и не жалеют.
Зачем он вообще в это влез – надворный советник Штольман? Вместо того, чтобы плюнуть на Варфоломеева и его подковерные игры, ловить себе с чистой совестью воров и убийц, любить свою барышню… Дурак. А необычная всё же пара – полицейский чин и барышня-духовидица.
Хотя вся эта история напрямую не касалась тех дел, что привели его в Затонск, грех было не попытаться узнать у разговорившейся Симзы что-нибудь и про Штольмана тоже. Кривошеин делано равнодушно перекрестился рукой с зажатой в ней тростью.
– Фартовые убили, должно быть. Ну, Царствие ему Небесное…
Цыганка, как он и ожидал, глянула на него сердито.
– Местные не стали бы. Разве залётные какие. Может, эти вот, про которых ты спрашивал. С нечистым даже заговорённому фараону не совладать.
Симза вдруг пригорюнилась и вздохнула.
– Жалко барышню будет, если и впрямь убили. Нет, не наши фартовые то постарались. Зачем им фарт терять? Это всё нечистый, своим верным помогал. Полиция ведь их тоже искала, да куда им, если с убийцами сам дьявол был! А сам ты разве не боишься? – спросила она внезапно, вскидывая глаза на Кривошеина.
– Боюсь? Чего? – насторожился он. Симза неопределённо повела плечами, кутаясь в свой безразмерный платок.
– Ты сказал, что по следу их идёшь. А что ты можешь сделать, если над тобой самим тот же дьявол властен?
Каким-то чудом Михаил Модестович ухитрился не вздрогнуть – только почувствовал, как пальцы сами собой сжались на набалдашнике трости.
– Разве властен? – после недолгого молчания спросил он.
– Сейчас, может, и не властен, – цыганка пристально взглянула ему в глаза. – Но много ли тебе осталось? Всё одно он тебя получит.
Захотелось вдруг повернуться и уйти, кинуться прочь, как давеча в страхе кинулась от него сама Симза. Обратно, на вокзал – и в первый же подъехавший поезд… Михаил Модестович поморщился. Что это с ним? Засиделся он в своём доме, точно. Давно отошёл от всех дел, давно не играл с судьбой… и с тем самым, о котором напомнила ему юная драборовкиня.
И не выигрывал – тоже давно. От судьбы не убежишь, судьба и на печке… в Затонске найдёт.
– Вот тогда и посмотрим, чья возьмёт.
Михаил Модестович решительно повернулся в сторону извозчичьей стоянки, где нетерпеливо переминался с ноги на ногу изрядно промерзший носильщик с его вещами, когда позади снова послышался тревожный голос Симзы.
– Всё одно он тебя ждёт. За багровой дверью. Как с этим живёшь? С обречённой душой?
* * *
Извозчичья пролётка неторопливо катилась по улицам Затонска, проплывали мимо дома, лавки, промелькнула чуть в стороне большая людная площадь, за ней начали появляться богатые особняки. Отставной московский сыщик, выпрямившись, сидел в экипаже, смотрел на всё это, но не видел.
Бабушка умирала долго, трудно. Поначалу Модест Аверьянович, Мишин батюшка, сбивался с ног, приводя к своей матери одного врача за другим – те по большей части пожимали плечами, говорили о преклонном возрасте пациентки, о том, что на все Воля Божия; забирали гонорар и уходили, освобождая место другим. Потом врачи исчезли – Модест Аверьянович то ли разуверился в них окончательно, то ли смирился. Нанимал лишь сиделок, что часто менялись – иные уходили буквально на третий день, даже не забрав причитавшейся им платы. Кто ссылался на тяжкий старухин нрав, кто просто уходил молча, ничего не объясняя. Модест Аверьянович о причинах не допытывался, отправлялся искать следующую сиделку.
Именно о бабушкином тяжелом нраве и угасании ее болезненном, мучительном, говорил батюшка, запретив вдруг Мише вовсе ее навещать. Поначалу Миша, почтительный сын, и задумываться о причинах не стал, да и не до того ему было. Учился он тогда в выпускном классе, учёба давалась трудно; с бабушкой они давно уже не виделись, а тут и вовсе было недосуг. Только когда пошел второй месяц бабкиной болезни, совесть начала мучить Мишу по-настоящему. Бабушка всегда была к нему добра; что же это он, как фетюк какой, и на смертном одре не придет ее навестить? Но папенька продолжал упорствовать в своем запрете, чуть ли не проклятием грозился – «не смей к матери моей ходить нынче», и все тут. Да так страшно на Мишу глядел, что у того мурашки по спине бегали. Словно боялся Модест Аверьянович чего-то, а чего – вовсе было непонятно, оттого еще страшнее. И совсем уж страшно и непонятно стало, когда подслушал он ввечеру разговор отца с матерью:
– Недолго уж осталось, – глухим голосом говорил купец Кривошеин. – Сила ее здесь держит, да смерть все равно свое возьмет.
– Да побойтесь Бога, Модест Аверьянович, – голос матушки был тихим и бесцветным.
– А то я не боюсь…. Почитай, каждый день хожу молебны заказывать. Скорее бы отмучилась…. Это еще повезло нам, Анфисушка, что нет у меня сестры, и дочерей нам Бог не дал. Некому ей… – тут голос отца вовсе прервался, но матушка, видно, и без слов его поняла. Не первый раз говорили они, судя по всему.
– А Мишенька? – всхлипнула матушка.
– Миша парень у нас, за что Бога благодарю. Авось обойдется. Да и ходить к ней я ему запретил накрепко…
На следующее утро Миша, как всегда, пошел в училище, но на полдороге решительно свернул к бабушкиному дому. Может, именно тогда из-под спуда родительского воспитания, наставлений и запретов вырвался истинный его характер?
Никаких особых изменений в бабушке Миша и не заметил; может, высохла маленько, да морщин прибавилось – о каком таком мучительном умирании батюшка говорил? Правда, встречала его бабушка, сидя в постели, укрытая тщательно пуховым одеялом – Бог весть, что под тем одеялом скрывалось…. Сиделки при ней в очередной раз не оказалось – та, что была при старухе ранее, днями рассчиталась, а новую батюшка еще не нашел.
Бабушка встретила его ласково и без особого удивления, словно ждала. Впрочем, она всегда его так встречала. Улыбнулась, сверкнув по-молодому белыми зубами:
– Мишенька пришел… Ну здравствуй, голубчик. А я-то уж думала, что забыл про бабку Афросинью единственный внук, ну так дело-то молодое.
Миша начал бормотать какие-то сбивчивые извинения, но бабушка только рукой махнула.
– Знаю. Все знаю, не объясняй. Против отцовой воли, значит, пошёл, – усмехнулась снова, уже не ласково, а как-то так, что Мишу дрожь пробрала. – Худо для тебя может кончиться, не похвалит тебя батюшка за такую смелость.
– Уж как-нибудь, – буркнул Миша. Ну, выпорет его батюшка, так от этого не помирают. Отца он почему-то в тот момент вовсе не боялся, хотя и знал, что бывает Модест Аверьянович на расправу крут.
А вот то, что пришел он к бабушке и сидел нынче с ней – это было правильно. Сам бы себе не смог объяснить, почему, но – правильно.
– Раз сам пришел, значит, судьба такая… Подарок я тебе приготовила, – и быстрым движением старая Афросинья вытащила из-под подушки маленькую, потемневшую от времени резную шкатулку. Протянула внуку. Что в шкатулке находится, Миша знал, оттого глянул на бабушку удивленно.
– Твои карты? Зачем они мне?
– А мне зачем? – снова непонятно усмехнулась бабушка. – Там, куда я собралась, они без надобности. Там и без карт все ясно – что было, что будет. А ты бери. Себе на забаву, людям на удивление. Умеешь ведь?
Миша умел. В детстве еще начал гадать он вместе с бабушкой на картах, раскладывая старинную колоду и видя перед собой то дорогу дальнюю, то королевну иноземную, то еще что-нибудь. Батюшке с матушкой он про бабушкины уроки, правда, не рассказывал – а сам батюшка, если и знал про их забавы, то ничего на этот счет не говорил.
Дед Аверьян так точно знал – и Бог весть, что думал, но тоже молчал, несмотря на весь свой нрав. Хотя у деда покойного характер был – по сравнению с батюшкиным, так словно лесной пожар супротив свечки.
Бабке же Афросинье он в жизни перечить не осмелился.
– Слушаются тебя карты-то, – бабушка продолжала улыбаться каким-то своим мыслям. – А когда они пустяки говорят, когда важное, это ты сам разберешь, не дурак уродился.
Снова глянула на внука, блеснула черными цыганскими глазами. Именно от нее Миша их получил.
Протянул руку, принял из бабушкиной руки шкатулку. Не удержался почему-то – открыл, заглянул. Точно, та самая колода, что бабушка раскладывала перед собой частенько, приговаривая: «Чем дело кончится? Чем сердце успокоится?» Спросил:
– Только ли на забаву, бабушка?
– Беспременно! – бабушка вроде как и рассердилась. – Жизнь себе по картам расписывать только дурак возьмется. А себя да людей потешить – в самую пору будет.
Откинулась назад на подушки, посмотрела на внука как-то по-особенному, пристально и серьезно, и медленно сказала:
– И никогда – слышишь, Михаил Модестович, – никогда ты этой колодой не играй!
Видно, в тот самый миг все и случилось. То, чего так боялись батюшка с матушкой, а может, что-то другое… Миша еще раз открыл шкатулку, зачем-то вытащил старую колоду, перетасовал медленно и, держа карты в руках, вдруг понял – что он должен сделать. Несмотря на все бабкины и батюшкины слова и запреты.
– Прости меня, бабушка Афросинья, – произнес он, сам пугаясь своего странно звучавшего голоса. – Не смогу я по твоему слову поступить. Сыграй со мной!
Поднял глаза на сидевшую перед ним – и чуть не закричал. В один миг не стало хоть постаревшей, но привычной бабушки Афросиньи. Та, что сидела сейчас перед ним… надо полагать, именно ее видели и разбегавшиеся сиделки, да и Мишин батюшка. Обдало его болью и смертью, точно кипятком окатили. Но не закричал, и глаз не отвел. Смотрел пристально, только в ушах шептало нечто неведомое, что так – правильно. И черные глаза, прожигавшие его насквозь, вдруг опустились.
– Что же ты хочешь выиграть, Мишенька?
– Твою силу, – Миша не понимал, кто это говорит – сам ли он, или кто другой, что вдруг завладел его телом и голосом. Бабушка же только вздохнула тяжело:
– Зачем тебе моя сила, Мишенька?
Не мог он толком объяснить. Крутилось в голове всё, что с бабушкой было связано, что своими глазами ведь видел, да значения не придавал. Да давешний разговор отца с матерью…
– Просто ты, бабушка, пока сила с тобой – ты ведь… никак…
– Что никак? – бабушку вроде бы развеселили его слова. – Никак не помру? Не беспокойся, Михаил Модестович. Никто еще на этом свете сверх срока не остался – и мне не дано. Уйду, рано или поздно – но уйду.
А потом незнакомым вдруг стало бабушкино лицо, страшным. И чужой, глухой голос попросил жалобно:
– Откажись, Мишенька. Откажись…
Но неведомое желание сдавило горло, заставило стиснуть зубы. Миша и сам себя не понимал, что это он так упирается. Чувствовал только, что все делает правильно. И что нужно идти до конца.
Бабушка закрыла лицо ладонями и долго молчала, покачиваясь из стороны в сторону. Потом вздохнула тяжело.
– Вот она, видать – расплата… Дура я старая. Нужно было тебе раньше сказать, да отца твоего жалела. Не нужна тебе моя сила, Михаил Модестович, своя есть. Потому и отказать не смогу. Не мы с тобой – дар с даром играть садятся. Сдавай. В подкидного дурака сдавай. Черви – козыри!
Миша сдал карты – и черви точно вышли козырями. Долго играли они в лучах утреннего света, одна за одной падали потёртые карты на бабкино пуховое одеяло. Нехитрая игра – подкидной дурак, но тогда обдумывал он каждый ход, прикидывал так и эдак, запоминал, что в отбой пошло… и всё одно проигрался.
Сидел перед бабушкой круглым дураком, чуть не со всей колодой на руках, а всё одно не чувствовал ни огорчения, ни страха. Словно так и должно было быть. А по бабкиному лицу, враз постаревшему, катились слёзы.
– Выиграл, внучек… – прошелестел еле слышный голос.
– Как же выиграл?.. – только и смог спросить Миша. Бабушка снова вздохнула тяжело.
– А вот так. В картах этих всё разом случается. И выигрыш, и проигрыш. Цена только разная будет. Силу ты получишь. А что проиграл… Про то сам узнаешь, когда время придёт. Всё же ты добра хотел. Может, смилостивится Матерь Божия…
Померла бабка Афросинья той же ночью. Узнал ли Модест Аверьянович, что непокорный сын, нарушив его запреты, побывал у нее накануне, и что он обо всем этом думал? Наверняка знал. Не спрашивал. Летом уже, когда закончил Миша училище, позвал его отец к себе и, глядя в стенку, велел сыну отправляться на все четыре стороны. Искать свою судьбу, где тот только пожелает. Деньги обещал высылать по первому требованию, и обещания того, пока был жив, не нарушал. Просил лишь об одном – не возвращаться никогда более.
Михаил Модестович и не возвращался. Даже на похороны родителей. Поначалу ему казалось, что в того подкидного дурака он проиграл все привязанности, что у него в жизни были или могли быть. Что именно такой будет расплата. Да мало ли одиночек на свете? Не один год прошёл, прежде чем понял он, ЧТО поставил на кон в той игре. Матерь Божия не смилостивилась…
«Как живёшь с обречённой душой?»
«Так и живу, пхэнэ» – мысленно ответил Михаил Модестович. – «Научился уже»
Когда-то он тщился спастись привычным образом – молился, каялся, жертвовал на богоугодные дела, благо немалое наследство, оставленное дедом Аверьяном, отец отдал Михаилу целиком и сразу, как только двадцать один год ему исполнился. Но в душе чувствовал, что всё это впустую. Если Бог и существовал, то что-то иное требовалось ему от блудного купеческого сына, вот только он никак понять не мог – что… Молчали образа в церквах, молчал Христос на распятии. Лишь враг рода человеческого нашептывал в ухо, соблазняя пуститься во все тяжкие, напоминая Михаилу о том, что он «не такой», что он уже прикоснулся к запретному, стал одной ногой на ту сторону – а стало быть, всё можно.
Но Мишка был молод и упрям, поддаваться не хотел, да еще священник, отец Митрофан, случайно встреченный им на пути, сильно ему помог, хотя знакомы они были недолго. Неделю? Или еще меньше? Умер тогда старик прямо на руках у Михаила, но самое важное сказать успел.
Именно тогда Кривошеин выбрал себе путь, на котором, как ему казалось, сможет бороться до самого конца. Врёшь, нечистый, не возьмёшь чертозная Мишку. На этом свете – точно не возьмёшь, тут еще кто кого. Пока он еще жив и душа его с ним, и есть возможность бить дьявола по роже от него же полученной силой. Заговорёнными картами – по мохнатому свиному пятачку… Даром своим Михаил Модестович пользовался без особого стеснения, умело скрывая его под личиной шарлатана. Главное – вести себя таинственно, как настоящий обладатель Высшего Знания, тогда точно никто не поверит, что ты на что-то способен. Запишут в фигляры. Правда, была у этого и оборотная сторона – никто также не верил в войну, которую сыщик Кривошеин вел с сатаной.
Сослуживцы считали сие личной придурью старого сыскаря, а начальство по большей части сердилось. Лабазы грабят, почтенные коммерсанты многотысячные убытки несут, а Кривошеину важнее какой-нибудь великосветский притон, где экзальтированные юнцы и дамочки нюхают кокаин и возносят хвалы Бафомету. «Тратить силы полиции на такую ерунду! Михаил Модестович, позвольте вам напомнить, что вы служите в уголовном сыске, а не в святой инквизиции!..» Но у Кривошеина был свой счет тем легковерным дуракам, которых он сумел вовремя оттащить от багровой двери. Должно быть, тот, кто ждал за этой дверью самого Чертозная, злился на него неимоверно.
Пожалуй, только полковник Варфоломеев принимал всерьёз его повышенный интерес ко всем этим доморощенным дьяволопоклонникам, да и то… Михаил Модестович был уверен, что начальник Службы Охраны Государя не верит ни в Бога, ни в чёрта. Для него и эти двое – лишь ниточки, за которые можно дёргать чьи-то души. Понятно, что бесчинствовавшие в Затонске сатанисты были бы полковнику глубоко безразличны, если бы не их предводитель, в котором он заподозрил агента противной стороны. Вот тогда в ход пошли и адепты Люцифера, и сам Люцифер, и девушка-медиум, предназначенная ему не то в жертву, не то в услужение – всё, что угодно, лишь бы выдернуть из Москвы бывшего сыщика и бросить его по следу Магистра. В чём не мог Михаил Модестович отказать Варфоломееву, так это в умении правильно наживить крючок.
Но приманка в этот раз оказалась настоящей. «Нечистый с ними был». Кто же там затесался, среди этого сброда, развлекающегося охотой на людей и мерзкими ритуалами? Старый знакомец Меркурьев или кто-то пострашнее?
И что значат слова цыганки о том, что четыре дня назад всё закончилось и бояться больше нечего? Нечистый выпустил одержимого из своих когтей – или убрался вместе с ним? Но дело-то еще не закончено, барышню-медиума они не заполучили. Кстати, а почему барышня Миронова до сих пор в Затонске, а не в Петербурге, под крылышком варфоломеевской службы? Разбрасываться подобными кадрами не в обычаях полковника.
Михаил Модестович поморщился. Никогда он не питал иллюзий относительно методов Варфоломеева. Всё на благо Империи… Один из его верных людей уже сложил где-то здесь свою голову, неужели теперь Владимир Николаевич запросто жертвует одарённой девушкой, делая из неё приманку для помешанного сектанта?
Пролётка дважды подскочила на выбоине, круто развернулась, въезжая в какой-то дворик, и лихо затормозила. Кривошеин выронил свою тяжёлую трость и, чертыхаясь, ухватился за бортик.
Бородатый извозчик в синей поддёвке повернулся к нему:
– Приехали, барин. Вот, туточки у нас полицейская управа!


Цыганские слова и выражения, использованные в главе:
Пхэн - сестра
Нэ дар! - Не бойся!
Сыр тут кхарэн? - Как твоё имя?
Драборовкиня - гадалка
Шувани - колдунья
Скачать fb2 и аудиоверсию (Облако Mail.ru) Скачать fb2 и аудиоверсию (Облако Google)



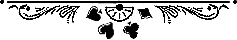



 .
.



