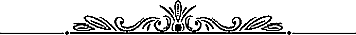
Профессор черной и белой магии
Сейчас… Через час… Что было?.. Что будет?..
Потрескивают дрова в камине. Мороз покрыл оконные стёкла тончайшей сеткой узора, хочется прижать палец к окну, протопить в ледяной паутине дырочку и потом долго одним глазом смотреть на улицу, заваленную снегом. Но сейчас время учёбы – пусть и не совсем обычной.
– Сейчас…
Дедушкины руки, покрытые морщинками, но всё еще сильные и ловкие, неторопливо тасуют старую колоду. Падает на стол первая карта – шестерка бубен.
– Защита, – немедленно отвечает Николенька.
– А еще?
– Новости от друзей. Путешествие. Но сейчас это защита… – уверенно говорит Николенька. Подумав, уточняет: – Высших сил.
Михаил Модестович улыбается. В маленьком доме, утонувшем в наметённых недавнею пургой сугробах, царит светлый покой.
– А если гадать на чью-то судьбу?
Николенька задумчиво подпирает подбородок ладонями и долго смотрит на бубновую шестёрку. Он не совсем уверен в ответе.
– Мудрый человек?..
– Не просто мудрый, – Михаил Модестович глядит на внука задумчиво. – Но тот, который понимает, что за всё в этом мире приходится отвечать.
– Не вижу, дедушка… – Николенька немного огорчён.
– Не страшно. Это придёт. Да мы ведь сейчас не на судьбу гадаем.
Кажется ему, или Михаил Модестович чего-то не договаривает?
С кухни доносятся негромкие голоса мамы и бабушки. Уютно пахнет горячей тканью – это мама гладит платье. Сегодня состоится благотворительный вечер, и мистер Рональд О’Ши уговорил маму там спеть. Он и дедушку пытался подбить, но тот отказался. Сказал, что в его возрасте петь можно только отходную. Дедушка любит пошутить…
– Давай дальше, Николенька. Через час…
Семерка треф… Туз треф… Одна за другой падают на стол карты с потемневшей от времени рубашкой. Иногда он понимает их смысл сразу, а иногда – это просто карты… Наконец Николенька осмеливается спросить:
– Для чего мне это? Ведь я могу и без них.
– Ты видишь только то, что показывает судьба, – спокойно поясняет дедушка. – А с картами ты можешь сам спросить. А теперь – что будет?
Николенька зачарованно следит за тем, как дед переворачивает следующую карту – даму бубен.
Ему кажется – или она смеётся?
Это не дама. А кто? Может быть, принцесса?
На принцессе яркое пальто в веселую зеленую клеточку, и она действительно смеётся.
Она красивая. Хотя и по-другому, чем мама. И уж совсем не похожа на те картинки с нарядными дамами, что висят в витринах магазинов, где продают духи и женские платья. Просто у неё особенное лицо, такое, на которое хочется смотреть и смотреть. Белая кожа в веснушках, чуточку впалые щеки, тоненькие тёмные брови вразлёт. Глаза – то серые, то зеленые, то голубые, прозрачные, как морская вода. А еще она рыжая – такая рыжая, что дух захватывает. Копна кудрявых волос сияет ярче красных канадских клёнов и жёлтых берез, мимо которых они идут…
Солнце льётся сквозь золотые витражи высокого окна, делая волосы принцессы совсем огненными. На ней уже не пальто в клеточку, а длинное белое платье; немножко смешное, оно не очень ей идёт, но всё равно его принцесса – самая красивая. Его? Пожилой человек в одежде священника говорит какие-то слова, потом закрывает свою книжку и широко улыбается. Кто-то подносит тарелочку с кольцами. Николенька надевает кольцо принцессе на левую руку. А она ему – на правую…
Картинка медленно тает. Он с трудом отрывает глаза от улыбающейся бубновой дамы и встречается взглядом с дедом.
– Сказка? – негромко спрашивает Михаил Модестович. Николенька смущенно кивает.
– Сказка. Про принцессу.
На безымянном пальце всё еще ощущается тяжесть призрачного кольца. Юный Лович снова отчаянно краснеет, но с дедушкой можно говорить обо всём и, справившись с собой, Николенька добавляет:
– Кажется, это моя жена…
Глаза деда вспыхивают. Он спрашивает с улыбкой:
– И как зовут принцессу?
Как? В сказке этого не было… Но в памяти всплывает копна волос, рассыпающихся ослепительными искрами, горящих ярче осеннего леса и, неожиданно для самого себя, Николенька отвечает:
– Золотое Деревце…
Сейчас обручального кольца на Нике Ловиче не было. Жена сама стянула его деловито перед отъездом, ехидно при этом заметив:
– Засыплешься, Джеймс Бонд. Только русские носят обручальные кольца на правой руке.
– Так я тоже засыплюсь. Я везде написал, что женат, – Николай уныло посмотрел на свой осиротевший палец.
– Тем лучше. Как раз сойдёшь за старого обольстителя в активном поиске.
– Это carte blanche, мадам? – тоном оскорбленной невинности поинтересовался профессор Лович. – Как вы только можете предлагать подобное добропорядочному семьянину. Я и слов-то таких не знаю!
– А ты постарайся вспомнить. Тридцать пять лет назад ты их точно знал, Ник. Одна глупая ирландская девица на них даже повелась… – жена вздохнула трагически. – А ведь мне уже почти сделал предложение Арман Сен-Жан! Собственный бизнес, четыре магазина!..
– Три, – въедливо уточнил Николай.
– Четыре.
Спорить с ирландцами Ник Лович зарёкся много лет тому назад, потому согласился с покорной миной:
– Пусть будет четыре. Вы всегда были сильней меня в математике, миссис Лович. Но всё равно, почти – это не считается…
– Еще как считается! – притворно возмутилась супруга. – Но – не суждено бедной девушке вкусить простого мещанского счастья, если на неё положил глаз келпи. Мне до сих пор интересно, куда в тот день делся Арман, что на Мон-Руаяль я отправилась с тобой?
– Понятия не имею, – Николай сделал честные-пречестные глаза. – Наверное, у него замаячила очередная сделка? Но, душа моя, во имя справедливости хочу напомнить, что ты сама согласилась...
До него донёсся еще один страдальческий вздох.
– Юной дурочке так хотелось выгулять новую шляпку…
– Златые пряди заплела красиво Дженет в косу. Зеленый сборчатый наряд надев, ушла без спросу… – не без удовольствия процитировал Николай, откидываясь на подушки дивана. – Только не говори мне, что бабушка Брин не рассказывала тебе страшных сказок про твою тезку. Про то, что ходить опасно в Картерхо златой венец носящей прекрасной деве…
– Рассказывала. Но дурной пример заразителен. – призналась супруга, прицельно выдергивая у него из-за спины самую пухлую подушку.– В итоге еще одна Дженет обнаружила себя замужем за нечистой силой. Кстати, мне всегда не давало покоя – ну куда же келпи уносит этих самых прекрасных дев? А всё оказалось до ужаса прозаично: дева становится его женой, растит ему детей и до старости ждёт его с моря.
– Хочу заметить, миссис Лович, что упомянутая вами нечистая сила ограничилась одной прекрасной девой. После чего много лет пыталась вести себя подобающе и не грешить. А теперь ты сама отбираешь у меня обручальное кольцо и предлагаешь пуститься во все тяжкие. Дженет, я же не на шабаш лечу! Всего лишь на официальную до мозга костей встречу, – он потянулся за кольцом, но любимая жена ловко увернулась. – Надо сказать Михаилу, чтобы он не таскал тебе больше дрянные шпионские романы. Надену на левую руку.
– Не нужно, Ник. Примета плохая.
– И какое отношение ирландские суеверия имеют к русской нечистой силе?
Прозрачные серые глаза жены сделались неожиданно серьёзными.
– Знаешь, лучше бы ты и впрямь на шабаш летел, Келпи. А то у меня какое-то странное предчувствие.
– Предчувствия – это вроде по моей части? – улыбнулся Николай. – Ну, давай спросим у дедушкиных карт. И ты увидишь, что я вернусь. И ничего со мной не случится.
– Вернёшься. Но что-то точно случится...
Случится? Или уже случилось? Тогда он вытащил всё-таки дедовы карты, но те предсказуемо не показали ничего, кроме дальней дороги. С того момента, как он замыслил поехать в Союз, карты только её и показывали. Решай сам, Ник-Келпи, Морской Конёк, потомок русских колдунов…
– Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать – и тоже пожалеть…
Слова вырываются у Николеньки сами собой. Михаил Модестович долго смотрит на выпавшие карты. Потом медленно кивает.
– Пожалуй…
Николенька тоже смотрит на получившийся расклад. Он далеко не всё понял, но то, что понял – говорит о чём-то важном. Дама бубен, обернувшаяся принцессой. Теперь валет червей в паре с десяткой – решение, от которого нельзя отказаться...
– Дедушка, а мы точно просто учимся? – рискует спросить он.
Михаил Модестович непонятно качает головой.
– Эти карты всегда говорят. Но сейчас мы у них ничего не спрашивали, вот они и показывают… всё вперемешку. Главное, что ты учишься понимать их язык.
– Они волшебные?
Этот вопрос давно занимает Николеньку. Дедушка долго молчит, обдумывая ответ.
– Не знаю, – признается он, наконец. – Но они очень старые. Им точно больше ста лет. Обычные карты столько не живут. А мои карты состарились, но не умерли. Но волшебные – это не совсем правильное слово…
Дедушка внимательно смотрит на него поверх очков:
– Мы с тобой тоже необычные. Но не волшебники. Понимаешь, в чём разница?
В окно негромко стукается запущенный кем-то снежок. Несильно стукается – так, чтобы внутри услышали, но чтобы ни в коем случае не разбить стекло. Михаил Модестович, по- кошачьи щурясь, косится на окно.
– Кажется, это твои приятели О’Ши…
– Мы договаривались пойти на каток, – тихо отвечает Николенька.
– Так иди, – улыбается дедушка.
Николенька неуверенно привстает, глядя на карты, разбросанные по столу. Потом садится на место.
– Нужно закончить, – говорит он твердо. – Ты мне говорил, что нельзя оставлять расклад незаконченным.
– Это когда гадаешь всерьёз. А если просто баловаться, как мы с тобой… Хорошо, – Михаил Модестович улыбается. – У нас осталась-то всего одна карта. Чем сердце успокоится?
Пальцы деда переворачивают последнюю карту. Бубновая восьмёрка.
– Огонь? – удивлённо спрашивает Николенька.
– Наверное, мама прожжет дыру в подоле, – дедушка оглядывается в сторону кухни, откуда доносится сердитое шипение утюга. – Или у бабушки сгорит ужин. Так что приходи вовремя.
Но почему Николеньке кажется, что дело не в ужине? Он смотрит на восьмёрку бубен, пытаясь угадать её смысл, но карта молчит. Кажется, она уже сказала всё, что хотела. Дальше придётся думать самому…
В стекло ударяется еще один маленький снежок.
– Иди, – повторяет Михаил Модестович. – Пока окно цело.
Он давно свыкся с тем, что путь на родину ему заказан. Значит, так суждено. Николай всегда помнил, что он русский, но оказался из тех счастливых людей, которым интересно жить и некогда страдать от непонятной тоски, именуемой ностальгией. Он уехал из России совсем мальчишкой. Белые березки росли и в Канаде, ну а море, которому принадлежала его душа, было попросту общим для всей Земли… И всё же, получив зимой письмо от старого сослуживца, он разволновался куда сильнее, чем сам от себя ожидал.
Обеспокоенная жена тогда нашла Николая на его любимой скамейке за домом. Скамейка была вкопана в самом неудобном углу двора; соседи втихомолку удивлялись, но секрет был в том, что только с этого места можно было увидеть далёкий океан. Там он и сидел, даже не застегнув куртку – и совсем не чувствуя холода.
– Ник, ты с ума сошёл? – возмутилась, подходя, супруга. – Замерзнешь!
– Гастингс мне написал, – ответил Николай, не отрывая взгляда от узкой тёмной полоски на горизонте. – Помнишь Гастингса?
– Разумеется, – Дженет взяла у него из рук письмо.
– Он теперь какая-то шишка в ветеранском комитете. И предлагает мне весной полететь в Россию. На встречу союзников в Мурманске.
– И в чём проблемы, Ник? – жена внимательно изучала послание Гастингса. – Тебя не отпустят в университете?
– Отпустят. Только не впустят.
Николай повернулся к ней.
– Нужно ведь будет заполнять разные анкеты. Я засыплюсь на первом же вопросе – про год и место рождения. Петербург, тысяча девятьсот девятый. Белоэмигрантов не впускают в Советский Союз.
– Ник, а это вообще возможно проверить спустя столько лет? Просто напиши «Монреаль» и езжай. Раз по-другому никак.
Не то чтобы он не обдумывал такой вариант… Николай позволил себе ухмыльнуться.
– Предлагаете мне обмануть советские власти, миссис Лович?
– Никогда не поверю, что тебя это хоть на грош смутит, Келпи!
В голосе жены прорезались суровые нотки.
– Когда ты шёл через «Черную яму» с караванами, советские власти не спрашивали твою анкету. А теперь, когда ты просто хочешь увидеть свою родину, людей, с которыми вместе был на той войне – ты сделался недостаточно хорош?
Когда было нужно, его Золотое Деревце в единый миг превращалась в Железное… Дженет села рядом и некоторое время молча смотрела ему в глаза.
– Ты же хочешь, я вижу, – произнесла она тихо. – Ник, я родилась тут, в Канаде. Но я всё еще ирландка. Если бы я не смогла увидеть землю своих предков иначе, чем обманом, то я во всех бумажках написала бы, что родилась в пекле, и моим отцом был сам Люцифер...
Многое ли в действительности связывало Николая со страной, что он покинул полвека назад? В войну это были северные конвои, идущие через Атлантику. Но бессонные ночи, волны, ветер, бесчисленные отрезки маршрута, вычерченные карандашом на карте, немецкие торпеды и бомбы – все сливалось в сплошную полосу огня и льда; не было какого-то особенного чувства от того, что караван, доведённый до места канадским кораблём сопровождения, отправится именно в Россию.
В те поры Николай один лишь раз видел её – осенью сорок третьего, но и тогда, глядя на далёкий берег Кольского полуострова с борта «Хирона», офицер Ник Лович не чувствовал прилива ностальгии. Куда сильнее была радость от выполненного дела. И желание невредимыми пройти обратным путём – мимо всей Скандинавии под постоянной угрозой авианалёта, потом через «Черную яму», кишащую немецкими подлодками. На том берегу Атлантики ждала Дженет, его Золотое Деревце, с их первенцем – Майком, Мишей… Это было намного важнее.
Но было ведь еще петроградское детство. Неполный год, прожитый в Москве. И могила на острове среди тёмных волн Финского залива…
Должно, дед-Чертознай водил рукой Николая, когда он заполнял бумаги. Все мелкие изменения, внесенные профессором Ловичем в собственную биографию, проскочили без вопросов. Повезло, что они уехали прежде, чем успели засветиться в документах нового государства.
Вот только за полгода без малого не пришло к нему ни одного видения, и карты молчали, предоставив внуку Чертозная выбирать самому. Лишь в самолёте, уже летящем из Монреаля, ему вдруг приснилось то давнее, наяву почти забытое за полвека гадание: с Золотым Деревцем и обручальным кольцом, с шестёркой бубен, дающей мудрость и защиту высших сил.
С мыслью о том, что лучше сделать – и пожалеть, чем не сделать – и тоже жалеть…
Не сказать, чтобы в судьбе Николая не встречалось доселе подобных ситуаций. Внук сыщика и сын офицера никогда не прятался от жизни. Но в Советской России это правило пришлось вспомнить не раз.
Николай сразу решил, что одного Мурманска ему будет мало. Особенно с учетом очень специфического советского гостеприимства, когда с одной стороны заморских гостей принимали сверхрадушно, а с другой – контролировали так, что порою Лович начинал чувствовать себя посаженым в затхлый мешок.
В стране, куда их вроде как позвали специально, отметить общую Победу. Зачем тогда звать, если заранее в каждом госте видишь врага?
Вряд ли при таком отношении Нику представится еще один шанс побывать в России, потому единственным выпавшим следовало воспользоваться до конца. Но, если просочиться в ту часть делегации, которую после чествования в Мурманске пригласили провести несколько дней в Москве, оказалось для канадского чертозная сравнительно просто, то с Петроградом – Ленинградом, – возникли проблемы.
– Я бы тоже не прочь, Ник, – заметил Брайан Данна, соотечественник и во многом родственная душа, с которым он под настроение поделился своим желанием увидеть город над Невой. – Но всё одно нас не пустят. Лучше даже не заикайся. Мало нам этих серых парней с оловянными глазами вокруг? Хочешь, чтобы приставили еще парочку?
– Нашпионим, как последние сукины сыны? – с ядовитой ухмылкой предположил Николай.
– Само собой. Ты особенно. Гидрограф из страны НАТО в военно-морской столице Советов! Кей-Джи-Би с ума сойдёт. Тебе и так повезло, Москву увидишь. А я завтра домой.
– Ты не рад, что прилетел, Брайан?
Тот пожал плечами:
– Я был чертовски рад увидеться с парнями, с которыми мы вместе драли задницу Гитлеру. Но меня достало это вот «передвижение по заранее оговорённому маршруту» – Данна взглянул на него проницательно. – Тебя, по-моему, тоже.
«Ты даже не представляешь, как…» Но вслух Николай ничего не сказал, ограничился одним неопределённым жестом. Собеседник вдруг понимающе усмехнулся:
– Тебе кто-нибудь говорил, Лович, что у тебя из глаз выглядывает чёрт?
– Постоянно. Мои студенты и вовсе зовут меня Хромым Ником.
– Так они правы. И этот чёрт в твоих глазах – он бесится от того, что его водят строем вдоль забора. Я все гадаю, ты не ирландец тоже, случаем?
– Жена ирландка, – коротко ответил Николай. – А я… разного намешано. Даже цыгане есть.
«Всего намешано, Брайан. Цыгане, разбойники, артисты, крестьяне, дворяне и моряки. Всего, из чего в итоге получается русский. И чёрт в моих глазах бесится не потому, что его не выпускают из-за забора – потому, что всю страну, которую я почитаю Родиной, со всем её свободолюбием, которое живо еще во мне, пытаются загнать не в рамки даже, но в душный мешок.
Потому, что даже когда мы просто вспоминали погибших товарищей, рядом сидел один из серых парней. И люди, прошедшие войну, теперь боялись произнести одно лишнее слово…
Но они по-настоящему были рады нас видеть. А парни в сером втихаря стреляли у тебя «Мальборо», а потом за спиной называли американской гнидой. Не зная, что я их понимаю. И что мне приходится прятать глаза, чтобы не дать чёрту вырваться на волю…
Здесь я еще был законопослушным. В Москве я не буду смотреть на то, что мне покажут, проведя по «заранее запланированному маршруту». Лучше сделать – и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. И да, я готов платить за свой выбор...»
Но вслух он лишь пожелал Данне спокойной ночи и неторопливо направился в номер. Завтра им обоим предстоял долгий путь.
Судьба была на его стороне. На второй же день пребывания в Москве членам американо-канадской делегации объявили, что их повезут на экскурсию по Золотому Кольцу, и Николай решил не упускать шанс.
В вечер перед экскурсией он отправился в соседний номер, к еще одному своему соотечественнику Биллу Кэддогану, и долго с ним болтал. Возможно, их слушали. Скучали, надо полагать, при этом отчаянно, поскольку все два часа Кэддоган нудел про хоккей, великим любителем которого был, жратву и выпивку. Пару раз Николай, словно бы невзначай, припоминал нечто более интересное, вроде одной из своих экспедиций в Арктику – чисто из озорства, чтобы по ту сторона микрофона не уснули, – но спустя несколько слов мстительно позволял Биллу вернуться к жратве, благо в данный момент Нику была совершенно не важна тема беседы.
По ту сторону микрофона точно не могли видеть, что, едва войдя в номер, профессор Лович словно бы невзначай взял кэддоганновскую тросточку и все два часа небрежно крутил её в руках.
Уходя, он аккуратно поставил палку на место. Колченогий Билл Кэддоган с тростью не расставался. Завтра палка вместе с хозяином отправится в поездку по Золотому Кольцу и повезёт с собой тень самого Николая, создавая у окружающих ощущение, что еще один член делегации «где-то тут»
Трюк этот был невероятно сложным, на грани его способностей, не чертознайством даже, но чертовщиной. Рискованным. Но, как выражался дед Михаил, вожжа уже попала под хвост.
После фокуса с тростью более всего хотелось упасть в кровать и не подниматься как можно дольше. Николай позволил себе передохнуть часок, истребил шоколадку, которую неизменно таскал в кармане, давно создав себе репутацию неисправимого сладкоежки, оделся и вышел из гостиницы в вечерние московские сумерки. В "Красной стреле" паспортов не спрашивали.
Правда, серьёзная молодая девушка, проверявшая билеты, не преминула спросить, где его багаж. Николай мимолётно пожалел о том, что он не спёр для конспирации чей-нибудь портфель на вокзале. К чертознайству прибегать не хотелось, но к счастью, помимо него Ник Лович унаследовал от Михаила Кривошеина массу других талантов. В том числе умение быть обаятельным до тошноты.
– Жизнь - тлен! – произнёс он с наигранно-трагическим видом, возводя глаза к потолку. – Багаж - тоже тлен. Поверьте аббату, который больше мушкетер, и мушкетеру, который больше аббат! Может, лучше поговорим о вечном?
Проводница на миг пришла в замешательство. Но тут же подобралась и кинула на излишне любезного пассажира негодующий взгляд, в котором явственно светилось: «Козёл ты старый!» Николай послал ей ослепительную улыбку. Не козёл, а Морской Конёк. С водорослью в седой гриве.
– Чай брать будете? – спросила девушка ледяным голосом.
Он ответил всё тем же театральным тоном, позволяющим скрыть акцент:
– Из ваших рук – хоть яд, о прекрасная дева!
В глазах проводницы читался уже весь словарь Бодуэна де Куртенэ.
– Яду не завезли, – кажется, она об этом искренне жалела. – За чай и бельё рубль двадцать.
Девушка вышла из купе, всей спиной демонстрируя своё суровое отношение к потасканным нахалам, у которых седина в бороду, а бес в ребро. Николай усмехнулся про себя, еще раз мысленно поблагодарив деда. По дороге на вокзал ему и так пришлось отвести немало глаз, а после трюка с тросточкой это было довольно утомительно.
В собственном даре его часто удивляло – даже пугало временами – именно это. С каким трудом давались вещи в целом безобидные, и как легко было учинить над человеком какую-нибудь непоправимую пакость, на веки вечные оставив его инвалидом. Наводить порчу Николай тоже умел, но Бог миловал от необходимости это умение применять. Неужели Михаил Модестович был прав, говоря, что их способности не от света?
Ник Лович прожил жизнь, считая себя человеком далеко не самого крутого нрава, разве что самую малость язвительным. Мама всегда говорила, что он пошел в отца. Сергея Ловича тоже не смогли ожесточить ни война, ни даже смерть…
«Когда он пришел ко мне, он говорил о любви, – рассказывала Анна Лович. – Не о ненависти. Твой папа не помнил зла, не думал о том, что его убили выстрелом в спину. Но он помнил каждый миг из тех, что у нас с ним был. Ты так на него похож, Николенька… Мой отец – замечательный человек, но... он словно огонь и сталь. А вы с твоим папой – свет…»
Сам он порою жалел, что нет в нём ни на гран дедовской стали. Но оказалось странно – и даже не совсем приятно – увидеть в себе эту черную сталь именно здесь, в России. Вместо ностальгирующего эмигранта Николай Лович с некоторым не вовсе восторженным изумлением обнаруживал в себе Чертозная, которого опасно злить. У которого лучше не становится на пути. Особенно если он твердо решил увидеть город, в котором родился…
Где стоят по квадрату
В ожиданьи полки –
От Синода к Сенату,
Как четыре строки…
Он их увидел снова – и Синод, и Сенат, и ростральные колонны Стрелки. В Летнем саду, где они когда-то гуляли с родителями, робко зеленели старые липы, что росли здесь, когда Николеньки Ловича не было на свете. Его не станет, но липы всё так же будут кивать ветвями, встречая холодный ветер с Невы. На пересечении набережной Фонтанки и Большой Подьяческой, мало изменившись за прошедшие годы, всё еще стоял дом, в котором он родился. Николай долго смотрел на него с другого берега реки: на подъезд, в который он входил, держась за материнскую руку, на окна родительской квартиры на четвертом этаже. Кажется, на этом самом подоконнике он сидел, когда к нему пришла одна из самых первых его сказок – про человека, плывущего в ясном ледяном небе под шелковым белым куполом.
Эта видение сбывалось кусочками. Что такое «парашют» – он узнал еще в детстве. Потом, в сороковом услышал, как воет «Юнкерс», заходя на цель. Но пришлось прожить целую жизнь и снова вернуться в Россию для того, чтобы узнать, чем же закончилась та сказка.
В Мурманске, на одной из встреч в Доме Офицеров, разговор очередной раз пошел о Севере и войне. И пожилой седоусый моряк рассказал любопытствующим иностранцам о шхуне, вышедшей из Архангельска в давнем двенадцатом году и бесследно исчезнувшей среди холода и торосов. И о молодом летчике, который много лет шел по следам пропавшей экспедиции. И о книге, которую написали об этом подвиге. Моряк уверял, что всё, рассказанное в книге – правда.
Видит Бог, у Николая были особые причины, чтобы слушать очень внимательно. И в какой-то момент рассказчик повернулся к нему.
– Вижу, мистер Лович, вы особенно заинтересовались?
Должно быть, глаза его выдали. Но спас тот самый Брайан Данна, заметивший с коротким смешком:
– О, вы не смотрите, что Ник у нас профессор в пижонских очках. Он точно в теме. Провел во льдах больше времени, чем любой другой!
За этот миг Николай успел совладать с собой. Промолвил с вежливо-непроницаемой улыбкой:
– Максимум, что там случалось со мной – промерзал, как собака... А где были найдены останки последних членов экспедиции? – спросил он.
Он уже привык, что в этой стране мало кто отвечает иностранцу сразу и прямо. Пожилой офицер тоже на миг привычно заколебался, но потом всё же решил, что никаких военных секретов он не откроет.
– На полуострове Диксон, мистер Лович. В сотне километров от устья Енисея.
– Они погибли летом пятнадцатого года, вы сказали?
– Последние письма капитана указывают на эту дату. Между восемнадцатым и двадцать вторым июня…
Взгляд у рассказчика сделался вопросительным. Но нельзя было сказать: «Мой собственный отец едва не отправился с той экспедицией…»
– Это общая беда всех моряков, – медленно ответил Николай. – Все мы можем не вернуться, и никто не узнает, где лежат наши кости. И то, что мистер… Григорефф, так? То, что мистер Григорефф сделал для этих людей, заслуживает самой искренней признательности любого, кто хоть раз в жизни выходил в море Арктики.
Это тоже было правдой. Повстречай Николай этого парня – хотя почему парня, они, похоже, ровесники? – он бы просил разрешения пожать ему руку. Потому, что Сергей Лович уже не смог бы этого сделать.
– Вашему летчику повезло, – заметил один из американцев – Совершить вынужденную посадку – и оказаться прямо в нужном месте! Сорвал джекпот!
– Это не везение, Ричардс, – твердо произнёс Николай. – Он искал пропавшую шхуну семнадцать лет. Невзирая ни на что. Перед такими людьми судьба отступает.
Спасательная экспедиция, которую отец с друзьями планировали в четырнадцатом году, и которой помешала война с Германией – смогли бы они помочь? Или в итоге еще один корабль числился бы пропавшим без вести? Сколько их – безымянных могил вдоль Северного Морского Пути…
А если бы Сергей Лович, как одно время собирался, отплыл на самой "Святой Марии"?
Он бы тоже не вернулся. То был поход обреченных. Наверное, карты однажды сказали бы деду… Помнил бы Николай отца, хоть смутно? Как могла сложиться их с мамой жизнь тогда? Тоже пришлось бы уезжать на другой край света? Революцию никто не отменял, но, возможно, дед и мать отнеслись бы к ней иначе. Могло статься, что Николай Лович прожил бы жизнь здесь, в России. Может быть, в этом самом городе.
Скорее всего, как дворянину и сыну царского офицера, суждено ему было в итоге попасть под какую-нибудь чекистскую молотилку. Подобных историй он даже в Канаде слышал в избытке. Но могло ведь и повезти?
Он всё равно стал бы моряком, как хотел с детства. Искал бы неизвестную могилу отца. И на этом пути наверняка встретился с еще молодым летчиком Григорьевым…
Но в семнадцатом году один подонок выстрелил лейтенанту Ловичу в спину, а второй из трусости не стал об этом рассказывать.
Весной восемнадцатого, отправляясь в Кронштадт, мама не взяла его с собой. Кажется, она хотела уберечь – то ли от себя тогдашней, то ли от новой встречи со смертью отца. Но Бог оказался милостив. Анне Лович не пришлось разыскивать тело мужа, год пролежавшее забытым в овраге. Отца нашли местные жители, еще летом. Убитый морской офицер – для Кронштадта тех времён зрелище привычное… Сергея Ловича тихо похоронили возле маленькой церкви на дальней окраине Котлина.
Что, если бы Рождественский не солгал? Если бы маме удалось в свое время отрыдать над этой могилой? Колесо судьбы повернуло, прокатилось по делам человеческим и душам; Рыцарь Огня и Леди Солнца их спасли, но иного выхода, как уехать, у их семьи не оставалось. Дед был прав – участия в заговорах, пусть ничем и не закончившихся, матери бы не простили.
Спустя пятьдесят с лишним лет сыну Анны Лович выпало стоять напротив дома, где прошла самая безмятежная пора его детства, делая вид, что он очутился тут случайно и борясь с непонятно откуда нахлынувшим чувством того, что он прожил не свою жизнь.
Николай никак не мог уловить, откуда взялось это странное ощущение, и дар не спешил прийти к нему на помощь. Город над Невой встречал его приветливо, но не покидала мысль, что тут он – только гость.
Могучие кони на Аничковом мосту, как и встарь, рвались из рук своих коноводов. На одном из постаментов зияла некрасивая, глубокая, старая уже выбоина – Лович мимолётно удивился, почему никто не озаботился починить старинный и знаменитый памятник, стоящий в людном месте, но в этот момент перед глазами всё вдруг поплыло...
В ушах загрохотало на разные лады. Задохнувшись на миг, Николай споткнулся, сбиваясь с шага, и едва успел окружить себя наспех выстроенной «пустотой», прячась от чужих взглядов. И стоял с закаменевшим лицом, слушая, как рвутся вокруг снаряды давно прошедшей войны.
«При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна…»
Покрытый шрамами, погибавший и воскресавший, как феникс из пепла, город уже не был Петроградом его счастливого детства. Как и прежде, он был величав и строг, в чём-то старорежимен даже, несмотря на пафосное звание “города трёх революций” – но другие люди умирали на его холодных улицах четверть века назад для того, чтобы Ленинград жил. Чтобы золотой кораблик Петра по-прежнему парил над Адмиралтейством, словно желая оторваться от своего причала и уплыть в вечность.
Уже вечерело, когда Николай, купив в цветочном ларьке две белые гвоздики, поднялся на Дворцовый мост и, постояв немного, бросил цветы в тёмную невскую воду. Это привлекло внимание случайного прохожего: пожилой мужчина, примерно одних с Ловичем лет, удивлённо глянул на плывущие цветы, потом на самого Николая – и широко ухмыльнулся:
– Не пришла?
Николай лишь коротко взглянул на него. Прохожий вдруг утратил свою весёлость.
– Прости, мужик, – сказал он искренне. – Я тоже двоих в блокаду потерял… Прости!..
Написано ли всё было у Ловича на лице – или прохожего как это нередко случалось, зацепило собственными Николая чувствами? Эту сторону дара он никогда не мог толком контролировать.
Не говоря ни слова, они кивнули друг другу. Пожилой ленинградец торопливо зашагал своей дорогой, а Николай, постояв еще немного, повернул в другую сторону – к Московскому вокзалу.
Медленное течение Невы понесло гвоздики к морю. Может, они сумеют доплыть до Кронштадта и балтийская волна выбросит их на прибрежный песок. Наверняка уже нет ни маленькой церквушки на выселках, про которую рассказывала мать, ни безымянной могилы у этой церкви…
Все земные печали –
Были в этом краю...
Вот и платим молчаньем
За причастность свою!
О, доколе, доколе,
И не здесь, а везде
Будут Клодтовы кони —
Подчиняться узде?!
Вернувшись ночным поездом в Первопрестольную, обратно в гостиницу Николай не пошел. Отправился бродить теперь уже по столице. Семь бед – один ответ. Но если в Питере одинокий прохожий не был никому особо интересен, то в Москве пришлось применить кое-что из чертознайского арсенала, дабы не привлекать к себе не только лишнего внимания, но и внимания вообще. Трюк с тросточкой мог и не сложиться, и в этом случае сгинувшего в неизвестном направлении иностранца уже ищут все компетентные органы. Так пусть найдут попозже. Последствий Николай боялся не слишком. Не та фигура университетский профессор, чтобы из-за нее раздувать международный скандал. Ну, выдворят из страны. Не слишком страшно, учитывая, что ему все одно через несколько дней улетать. К таинственным же "подвалам Лубянки", живописуемым в плохих книжках про шпионов отношение у Николая было крайне скептическим. Но, если дело дойдёт до знакомства с ними… Наверное, тогда придется вспомнить, что Ник Лович – не Джеймс Бонд. Что келпи из кельтских сказок - тварь довольно неприятная.
Москва, в отличие от Ленинграда, узнала его сразу. Может потому, что помнила его уже взрослым?
В марте восемнадцатого ему только-только исполнилось девять лет. Он сочинял сказки, и бабушка читала ему книги про рыцарей. Но именно тогда он перешел рубеж, отделяющий детство от отрочества – пусть даже родные еще долго звали его Николенькой…
Много спустя Ник Лович узнал мудреное слово – "инициация". Та весна стала весной его собственной инициации, когда ворвались в его жизнь разом дар, страх и смерть… Но рядом, помогая пройти через незримую черту, встали Леди Солнца и Рыцарь Огня. Штольманы как-то всегда оказывались именно там, где должны были быть. Их судьба была прямой, как железнодорожная колея. Они просто делали своё дело на своём месте, но соприкосновение с ними выправляло судьбы других, помогало перенести всё, что подкидывала жизнь.
Домик, где он жил с дедушкой и бабушкой, время не сохранило. Но уцелела подворотня в Вознесенском переулке, где устроили засаду бандиты, пришедшие убить дедушку. И стояла на прежнем месте Екатерининская больница, куда они с мамой приходили навестить раненого милиционера Петрова.
Дед Михаил был еще болен, потому они пошли вдвоем. Мама сама это предложила. Они принесли Илье гостинцы, и мама благодарила его, и кажется, даже плакала, а Петров, еще совсем слабый после ранения, смущался, краснел и отнеткивался неверным голосом:
– Да ладно вам, барыня. Ништо… Все живы...
Потом, когда они уже собирались уходить, стояли в дверях, милиционер вдруг поманил Николеньку к себе. И сказал очень серьезно:
– Ты уж под пулю больше не прыгай, малец! Матушку свою крепче береги. Несильная она у тебя...
Мама в ту пору и впрямь была – точно прозрачная. Словно бы темный огонь, так долго в ней горевший, сожрал Анну Лович почти целиком. Бабушка Наташа тогда очень за маму переживала, опасаясь чахотки. Но Николенька не боялся вовсе. Дед-Чертознай вместе с Леди Солнца и Рыцарем Огня вырвали маму из тьмы, и всё должно закончиться хорошо – пусть и на другом краю Земли.
Но до этого было еще далеко – а тогда, в холодной и прокуренной палате Екатерининской больницы девятилетний внук Чертозная лишь кивнул серьёзно головой, становясь из Николеньки – Николаем. Вторым мужчиной в их маленькой семье.
Во дворы рядом с Сивцевым Вражком Лович заглянул уже по пути в гостиницу, ни на что особенно не надеясь. Но когда оказалось, что его первая школа всё еще стоит на прежнем месте, и что в неё даже можно зайти – не смог устоять перед искушением.
На мгновение ему даже сделалось смешно. Неужели примерно так выглядит пресловутая изнанка советской жизни, которую, не жалея сил скрывают от гостей из-за океана власти этого Зазеркалья? Не бывали они в Бомбее. И в фавелах Рио… Внутри полуразрушенного дома было неприглядно и вонюче, но это нимало не волновало профессора Ника Ловича, и еще меньше волновало Чертозная. Старые ящики вдруг стали расшатанной партой, за которой он отсидел два месяца, появилась на закопчённой стене грифельная доска; за окном слышались веселые мальчишеские голоса, и пробивалось сквозь грязные окна яркое солнце далёкой весны восемнадцатого года…
Соорудили его одноклассники ту клумбу в сквере, как собирались? Анна Викторовна твердо обещала. Но кто теперь скажет? Вряд ли о такой мелочи знает Игорь… или кто-то из его родных.
Почему вчера он не узнал молодого человека сразу? От деда Николай унаследовал способность легко распознавать сходство и родство. Конечно, полсотни лет и четыре поколения – это не фунт изюму, но как он ухитрился проморгать Штольмана, пусть и носящего ныне другую фамилию?
Недаром дедовы карты молчали полгода. Должно быть, судьба испытывала и самого Ника. Сможет ли он заговорить с пареньком в милицейской фуражке на языке своей души? Сказать про старый дом – "Здесь была моя школа", тем самым открывая свою маленькую тайну, могущую принести не такие уж маленькие неприятности.
Он смог. И давний расклад, приснившийся ему по дороге в Россию, раскрылся окончательно, вплоть до бубновой восьмёрки. Неужели пятьдесят лет назад, когда он только учился владеть своим даром, судьба посулила ему именно это – встречу с семейством Штольманов?
– Николай Сергеевич, есть люди, которые не поймут, что я вас просто так отпустил, – решительно заявил ему вчера младший лейтенант Игорь Яковлевич Смирной. Ник подумал было, что ему придется-таки познакомиться с нынешним милицейским участком, но молодой человек продолжил:
– Я имею в виду – мои бабушка с дедушкой. Вера Яковлевна и Василий Степанович. Хочу вас к ним в гости пригласить…
– А они точно не будут против? – мягко спросил Николай. Он уже имел представление о том, во что обходится простым советским гражданам общение с иностранцами.
– Шутите? – совершенно искренне удивился Игорь. – Вот только как это устроить? Через все эти колючие заграждения и минные поля, – он вдруг покраснел и почти пробормотал: – И это у себя дома… Знаете, я с дедушкой Васей посоветуюсь. Он что-нибудь придумает.
Николай не стал спрашивать – что именно. Внезапно пришло осознание, что незнакомый ему Василий Степанович Смирной и впрямь что-то придумает, причем без малейшего чертознайства.
– А кто ваш дедушка, Игорь?
– Милиционер, – правнук Анны Викторовны вдруг ухмыльнулся: – Героический сыщик.
Николаю вспомнилось, что его Рыцаря Огня тоже называли Героическим Сыщиком. Была ли это глубоко семейная шутка, или переходящее звание – но то, что это смешное, но бесконечно правильное прозвище живет уже столько лет, внезапно согрело теплом.
Тогда, в восемнадцатом году он не знал никого из этой семьи, кроме Якова Платоновича и Анны Викторовны. Их детей он видел только на фотографиях. Прошло пятьдесят с лишним лет. Узнает ли он в потомках кого-то из тех, кого успел полюбить за краткое время и навеки запомнить?
Почему нет? В нём самом незримо живут и отец, и дед… Хотя в нынешней России, после всех войн и революций никто давно не помнит ни Кривошеиных, ни Ловичей.
Игорь Яковлевич – так определённо правнук Леди Солнца и Рыцаря Огня.
Сегодня они снова лежали перед ним на столике гостиничного номера – король треф и дама червей; а еще валет треф, в котором Николай сразу признал своего вчерашнего знакомца, король и валет червей, бубновая дама, король пик. Король бубен с червовой восьмеркой сулили встречу и расставание с прошлым, десятка треф – возвращение утраченного… Веры в людей, должно быть? В центре всего этого круговорота пока незнакомых лиц и неясных предзнаменований лежала восьмёрка бубен.
Огонь. Пламя. Кажется, никто в этой семье не боится разговаривать с неизвестными.
Вот только король пик в раскладе, вставший чуть особняком, определённо интриговал. С ним как-то было связано грядущее высвобождение Николая из гостиничного номера. После того, как они с Игорем вчера вечером вернулись в гостиницу, и младший лейтенант милиции, состроив невинную физиономию, сдал его с рук на руки ошалевшим «парням в сером», эти самые парни старались больше из виду профессора Ловича не выпускать. Такое чувство, что и ночевали в коридоре на коврике…
Николай задумчиво поднял со стола карту – и в этот самый момент в дверь постучали.
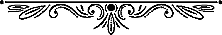
Следующая глава Содержание


 -->
-->
 он вырос очень красивым мужчиной, мимо которого дамы явно не проходили. Вот когда пришлось оттачивать умение быть обаятельным до тошноты)))
он вырос очень красивым мужчиной, мимо которого дамы явно не проходили. Вот когда пришлось оттачивать умение быть обаятельным до тошноты)))

 То есть ровно столько, сколько нужно для прекрасного раскрытия образа господина Ловича - но нам, читателям, всё равно мало ))
То есть ровно столько, сколько нужно для прекрасного раскрытия образа господина Ловича - но нам, читателям, всё равно мало )) Он ведь у меня без конца звучал в голове, когда я села за ленинградский кусок, я даже удивлялась - но почему "Петербургский романс", а не "Медный всадник". Но когда вы мне подсказали, по какому поводу была написана эта песня - на ввод войск в Чехословакию в 1968, - все встало на свои места.
Он ведь у меня без конца звучал в голове, когда я села за ленинградский кусок, я даже удивлялась - но почему "Петербургский романс", а не "Медный всадник". Но когда вы мне подсказали, по какому поводу была написана эта песня - на ввод войск в Чехословакию в 1968, - все встало на свои места.  . Я первоначально запуталась немного в этой кельтской нечисти
. Я первоначально запуталась немного в этой кельтской нечисти 
 . Да, не самая почтенная работа с его точки зрения. Его дед при знакомстве с Жиляевым тоже сначала просто на того морок наслал. "Я не воюю с полицейскими, только обманываю". А вот когда дело дошло до прямого противостояния - вот тогда врезал без жалости.
. Да, не самая почтенная работа с его точки зрения. Его дед при знакомстве с Жиляевым тоже сначала просто на того морок наслал. "Я не воюю с полицейскими, только обманываю". А вот когда дело дошло до прямого противостояния - вот тогда врезал без жалости.
