
Почти век назад...
***
Генрих Якоб Штольман, потомственный ремесленник — из цеховых ремесленников вольного города Любека, гордый 38-летний домовладелец и хозяин большой кузни, в 1806 году разорился дотла…
Его крепкий дом красного кирпича, из-за острой ступенчатой крыши похожий на резной пряник — его наследный, фамильный дом теперь стоял гулким и пустым. Мебель большей частью была распродана, и обстановка, и без того протестантски-скромная, удручала глаз. Из четырех этажей дома семейство Штольманов смогло отапливать лишь три комнаты первого этажа, где ютились вчетвером, и вечерами подкреплялись немудрящим ужином.
Канун Рождества застал Генриха, жену его Клару, тихую тринадцатилетнюю дочку Иду, и годовалого Польди отрезвляющей правдой дырявых башмаков и невозможностью купить Иде новенькую альбу к конфирмации. Ту льняную, белоснежную, расшитую шелковыми распятиями альбу, которую Клара еще год назад высмотрела для своей девочки в витрине церковной лавки семейства Шульц. Теперь у Иды в ее важный день не будет прекрасного белого одеяния и венка из роз, как у других девочек, и ее добрая мать не сможет собрать достойный стол для гостей… Это было настолько врасплох, что Клара впервые за несколько лет расплакалась.
Генрих беспомощно смотрел на плачущую жену, и его усы никли от горя. Он покачивал колыбель сына, который весело пускал пузыри во сне, и взглядывал на читающую у камина Иду. Генрих думал, что пришла пора продавать кузню… а по всему выходило, что и дом тоже.
Огонь пылал в простом кирпичном камине, куда была заправлена целая куча колючего сухого вереска, и в столовой, где они вечеряли всем семейством, было тепло, но надолго ли?.. И как теперь сложится будущее почтенного семейства? Около года назад у обескураженной четы Штольманов народился наследник, Леопольд Клаус Штольман, поразивший всю улицу роскошным весом, и которого сразу после крещения стали ласково называть домашним именем Польди. Клара так радовалась прибавлению в семействе, строила планы на долгое счастье, и Генрих был отчаянно горд собой… А теперь выходило, что ему, пусть немолодому, но уважаемому гражданину города, нечего оставить своим детям в наследство…
Улицы старого города, напоминавшие скелет огромной рыбы с изогнутыми костями, сквозь тенистые парки и купеческие садики всегда неизменно приводящие к воде, эти улицы, исхоженные Генрихом вдоль и поперек, нынче тревожили. Там, на голубой воде, опоясывающей Любек сверкающим кольцом, на причалах двух рек — Траве и Вакениц — сколько себя помнил Генрих, с лодок и парусных судов сгружались товары: соль и крепкое сукно, рыба, хорошее зерно, и русская пушнина, и желтый воск… И всего было в избытке, и грузы всегда шли нарасхват. А нынче всё было не так: судов приходило все меньше, и грузы стали скудными: горожане отчаянно экономили. Прославленные цеховики: кузнецы и портные, кондитеры и сапожники — бросали свои дела и нанимались — oh, mein Gott — в батраки к англичанам и французам! Дворяне немецких городов, вспомнившие о щедрых обещаниях полувековой давности русской царицы Екатерины, перебирались в далекую Россию.
Любек опустел. И теперь многие пряничные дома стояли заколоченными и холодными…
Во всем были виноваты паровые машины англичан, беспощадно перевернувшие устоявшийся мир вольных немецких городов, и Генрих думал об этом с ненавистью. Вся Голштиния, да что там говорить, все ганзейские земли, еще могучие или утерявшие былое величие, но полные самоуважения, вошли в девятнадцатый век так, как и подобает добрым государствам — по единому образцу, положенному предками. Везде совершался веками устоявшийся ритуал: феодалы владели землями и душами, монархи с переменным успехом дрались за право владеть феодалами, а ремесленники всех мастей помогали и тем, и другим скрашивать их почтенный быт. И Генрих от рождения знал: в немецких городах всем заправляет труд и порядок. И потому год за годом здесь не бывает революций и промышленных бурь, несущих хаос и слом укладов, как повелось в мятежной Англии или самовлюбленной Франции… И потому-то цеховики вольных городов не бывают бедны, а напротив, они всеми уважаемы, и всегда заканчивают жизнь в своих постелях. Генрих Штольман совершенно одобрял такой ход вещей, и собирался скончаться уважаемым цеховым ремесленником ровно так же, как его прадед, и дед, и отец его, и желал, чтобы и его сын, и сын его сына повторили этот путь.
Но рынки Любека, и Гамбурга, и Бремена заполонили дешевые изделия французских и английских фабрик. Иностранные, прекрасно сделанные вещи все прибывали и прибывали, и наплыва их было не остановить… Уже и крупные голштинские купцы понастроили пыхтящих дымами заводиков, и сами превратились в юрких заводчиков массовых вещиц… Куда уж с этаким молохом тягаться ручному ремесленнику, у которого на выделывание одного заказа уходили недели?..
Кузня Штольманов простаивала. О нет, меха еще раздувались под ее сводами, и каменный купол еще оглашался тяжелым боем молотов и перезвонами молоточков о наковальни, а подмастерья все еще обжигали шеи и фартуки жаркими искрами, но ремесло замирало и больше не приносило дохода. В тяжелых снах Генриха его трехвековые предки укоризненно качали головами…
По Любеку ходили пугающие новости, что Саксония занята Наполеоном, и что вся прусская армия сдается французам. Однажды утром Генрих вышел за табаком, и уже распахнул было тяжелую дубовую дверь лавки, как вдруг заметил свежеприкрепленный франкфуртский газетный листок с новостями и объявлениями со всего света. Серый лист пестрел колонками: «ИЗ РИМА», «ИЗ ЛИФЛЯНДИИ», «ИЗ БАВАРИИ», а колонка под заголовком «ИЗ РОССИИ» кричала:
Манифест русского императора!
НАБОР в народное ополчение русской армии!
Чувствуя, что волнуется, кузнец аккуратно сорвал бумажку и медленно, по складам прочел:
«Всему свету известные происшествия, наполнившие Европу ужасами кровопролития и разрушений чрез властолюбие и алчность правительства, возникшего во Франции …заставляют Нас обратиться к более сильным средствам для предотвращения её, создав местные временные ополчения или милиции, готовые всюду и мгновенно на подкрепление армий регулярных… Вся составляемая ныне внутренняя сила не есть постоянная милиция или рекрутский набор, но временное верных сынов России ополчение, устроенное из предосторожности в подкрепление войскам и для надежнейшего охранения Отечества. Каждый из Военноначальников и воинов при новом звании своем сохраняет прежнее, даже не принуждается к перемене одежды, и по прошествии надобности, то есть по изгнании неприятеля из земли Нашей, всяк возвратится с честью и славою в первобытное свое состояние и к прежним своим обязанностям. Мы же Императорским словом Нашим торжественно обещаем и поставим Себе священною обязанностью от лица благодарного Отечества излить щедроты и милости Наши и вознаградить почестями и знаками отличия, в честь добродетелям и заслугам установленными, всех достойных сынов Отечества…
Александр I, самодержец Всероссийский»
Генрих думал два дня. Он побродил под вратами своего дома, украшенного пожелтевшим мраморным гербом… На этом старом мраморе когда-то, в перекрестье двух копий, высекли прозвание далекого его предка: «Stolle-mann», от которого и пошел, по преданию, славный род Штольманов. Красноречивое, едкое прозвище «Stolle» («колючка», «игла», «терние», «шип», нем.; «mann» — «мужчина», «воин», нем.) для крестоносца-копейщика, должно быть, являлось приятной и лестной похвалой его умениям, а другого имени этот доблестный вояка потомкам не оставил. Вот в этом-то прозвище прапрадед Генриха убрал всего только одну букву, и, соединив оба воинственных слова в одно, навеки закрепил фамильное: «Stollmann».
Генрих еще полюбовался на герб, повздыхал, потом отсчитал немного денег, закинул за могучее плечо отцовскую кожаную сумку, поцеловал спящих домашних и ушел в порт. На первом же корабле он пересек седое, холодное Остзее, стараясь не думать о серых глазах Клары, близоруких глазках Иды, и крутом лобике своего сына… А сойдя на ледяную заснеженную пристань Петербурга, в тот же день разыскал военную канцелярию и записался в ополчение русского фронта.
Что оставалось делать бедной покинутой жене? Куда и кому может пожаловаться добропорядочная женщина на оскорбление ее душевного чувства? Для таких жалоб земля еще слишком тверда, а небо слишком высоко… Никто не услышал тихие жалобы Клары. Дом с садиком был продан, не сыскавшая покупателя кузня закрыта на висячий замок, а на вырученные деньги женщина перебралась с дочерью и сыном в другое жилище.
Это были съемные комнаты в купецком доме, в одной из которых Клара устроила маленькую мастерскую по починке шляп и одежды. Комната теперь всегда была увешана ремнями, лентами и кусочками материй, на полках свернулись тугими свитками холсты, а на маленьком столике у окна стояли мерные шляпные болванки и помещались лекала для всевозможного раскроя. На каменной ограде, ровно против Клариного окна, с улицы можно было прочесть объявление:
«Здесь починяют, чистят, а также и вновь перетягивают материей всякие, дождевые и летние шляпы, а также берут в починку нарядное платье, и еще переставляют пуговицы».
Через год, как вычитала Клара в новостных листках, в Эстляндию и Лифляндию стали возвращаться с русского фронта некоторые ополченцы — русское ополчение за ненадобностью распустили… Но люди рассказывали, что многих оставшихся принудили служить в рекрутах против обещания императора. В Эстляндских и Лифляндских провинциях жены, дети и отцы роптали, писали жалобы и прошения, и если бы Клара умела, то и она бы последовала их примеру, но Клара не умела этого, и только часто сокрушалась, что ее бедного мужа удерживают на войне силой. Это было истинной правдой, и любекский кузнец не вылезал с европейских фронтов, коих происходило в преизбытке, но одного Клара не знала — Генрих остался в рекрутах по доброй воле, и там, где другие ненавидели — он благодарил судьбу…
Она ждала его год, другой, но Генрих не возвращался. Жизнь текла неостановимо: дети росли, ходили в воскресную школу, им нужны были теплые постели и еда. Клара дала себе волю, четыре месяца поплакала, и смирилась. Лепта, добываемая Кларой, не была ничтожной, как могло показаться со стороны. Ей хватало на скромную одежду и еду для детей, на всегда горячий очаг и книги для Иды, она даже смогла прикупить в комнаты новых стульев! Соседи уважали ее, и частенько угощали фрау Штольман яблочным штруделем.
Она старалась неустанно поддерживать «дом», радушно принимала на скромных воскресных обедах семью пастора и достойного соседского булочника, герра Блюма. И уже через пять лет смогла выдать свою тихую Иду за пасторского сына.
А в 1816 году, где-то через год после падения Наполеона, тихой солнечной осенью дошли к Кларе от Генриха сразу два истертых письма девятилетней давности: одно из Пруссии, одно из польского Вроцлава. Неловкими каракулями кузнецкой руки были выведены сердечные слова: «жена моя Клара. и дочь моя Ида, и сын мой Польди, я не забыл вас. Я вернус до вас скоро, как смогу. Не ругайте Генриха, не ропщите на бога, и всегда ждите отца. миром живите с соседями, они помогут», и Клара поплакала еще…
Так они и проживали. Польди старался быть хорошим сыном своей гордой матери, и когда подрос, всякое лето нанимался в порт драить трюмы и помогать в разгрузке кораблей. В 1821 году, едва Польди минуло 16 лет, Клара снарядила его в Бремен — попыта<i></i>ть счастья странствующим подмастерьем. Теперь многие мастеровые, былой цвет ремесленничества, ходили по дорогам с ящиками и тележками, набитыми инструментами: они нанимались в деревнях на починку сараев, а в городках — на любую подработку. Вот и Польди Штольман, снабженный молитвами и наставлениями матери, три года странствовал по Голштинии, пока не выучился всему понемногу: и портняжничать, и скорняжить, и подковывать лошадей, а после, заработав немного денег, вернулся в Любек. Они с матерью выкупили в собственность мастерскую и продолжили шить и починять шляпы, перетягивать зонты и править их костяные ручки, и даже изготавливали перчатки.
В 1826 году, когда Польди исполнилось 20 лет, и Клара собралась, наконец, принять честное предложение герра Блюма, внезапно объявился Генрих, которого в семье Штольманов давно почитали погибшим. Он вошел, весь увешанный медалями, опаленный порохом, хромой и незнакомый старик, и обвисшие, совершенно седые усы его странно контрастировали со все еще могучим размахом плеч, и гладкой, продубленной на солнце кожей его лица. Глаза Генриха голубели. Он поставил в угол костыль, произнес: «мир дому нашему, Клара», и Клара, сидевшая над работой, вскрикнула. Польди вышел вперед, встал напротив незнакомца, и осознав, что этот старик его отец, ответил: «твоего дома здесь больше нет». Генрих немного помолчал и поклонился им в ноги. Странно, но их сердца смягчились, и они простили его.
Генрих не привез ничего, кроме своих наград и ран, беглого русского языка, да красно-зеленого мундира Преображенского лейб-гвардии полка, в котором он дослужился до подпоручика. И еще — отчаянной веры в то, что боевое товарищество с полковником лейб-гвардии бароном Константином Антоновичем Шлиппенбахом, которого Генрих вынес из-под огня где-то под французским местечком Краон, обернется для Штольманов дорогою в новую жизнь. Барон наградил его за свое спасение золотою шпагой на черно-желтой перевязи с красивой русской надписью «За храбрость», после чего они обменялись нательными крестами: барон Константин снял свой греко-российский, а Генрих свой лютеранский, и они сделались побратимами.
Скрипуче и тяжко кашляя, Генрих подолгу рассказывал сыну, как воевал на кровавых полях Пруссии и Польши, как стоял на Немане, где видел Наполеона, которого еще нескоро смогли побить союзники… Как сражался в Финляндии против шведов, как отступал из сумасшедшей снежной Москвы в зареве пожарищ, а после — дошел с бароном до Парижа. Что русский царь еще двадцать лет назад раздавал ополченцам Петербурга дворянство — за просто так! От богатства своего! А ему, Генриху, не досталось того… И он продолжил воевать за российскую державу, аккуратно считая растущую выслугу лет, и подавая без проволочек на повышение чина. И в конце концов выслужил Генрих по российской табели 10 класс — вовсе неплохая награда для безвестного немецкого кузнеца!
«О, в России надо лишь дослужиться до правильного класса или, показав беспримерную храбрость, получить Владимирский орден или «Егория», и тогда! — Генрих покачнулся и прикрыл глаза рукой, — тогда!.. В Лифляндии и Эстляндии, говорят, много хорошей земли, и ее теперь даром раздают русским дворянам! Надо лишь дослужить еще чуть-чуть — до пожалования дворянства…». Он устало потер грудь, и Польди протянул ему кружку сахарной воды.
Польди очень внимательно слушал отца. Генрих все бредил новою жизнью, звал Клару и сына в Россию, но Клара однажды уставила руки в боки, упрямо помотала головой и сказала: «нихт». Генрих был не жилец, он все надрывнее кашлял, окропляя рубаху алыми сгустками, а к весне совершенно слег и скоро умер, как и мечтал когда-то — в собственной постели в окружении семьи…
Польди как раз исполнился 21 год. Ранним утром, как и Генрих когда-то, он снарядил походный мешок, погладил ладонью нательный православный крестик на груди, взял отцовскую саблю, расцеловал плачущую мать, и отплыл с любекской пристани в Петербург.
Он нашел барона Шлиппенбаха, который обрадовался, узнав в нем сына побратима, и тут же взял его под свое начало в Преображенский лейб-гвардии полк. Польди стал Платоном для русских товарищей. Он воевал так отчаянно и бесшабашно, что вся его мундирная грудь покрылась наградами, среди которых был и солдатский «Егорий». Через три года он был взят в штаб новоиспеченного командира полка генерал-майора принца Петра Георгиевича Ольденбургского. За участие в подавлении польского восстания принц получил Анну и Владимира, а Польди — еще одного, старшего Георгия, и главное, <b>Высочайшее Благоволение</b> императора, награду, открывавшую перед ним все двери.
Польди прослужил в гвардии восемнадцать лет, когда за выдающиеся фронтовые заслуги ему даровали значительную пенсию, первый офицерский чин, а с ним и личное дворянство. Он послужил еще четыре года, выслужился до 7 класса, и при содействии полюбившего его некогда принца получил в личное владение старую полумызу с двумя деревеньками в Лифляндии.
Польди выиграл новую жизнь.
Он приехал в Лифляндию, куда-то под Дерпт, написал матери сдержанное, горделивое письмо, а через год женился на 17-летней остзейской дворянке, знавшей грамоте и красиво игравшей на фортепиано.
«Венчаются Беата Ульрика София Стендбок и Леопольд Клаус Штольман» — звучало под сводами Дерптской кирхи, и многочисленное семейство Стендбоков утирало умиленные слезы. Старенькая Клара не смогла бы осилить дальнюю дорогу, и не приехала на свадьбу сына, но прислала с письмом свое материнское благословение.
Через год, 20-го сентября 1850-го года у Польди родился сын, Якоб Штольман. Польди на ту пору минуло 45 лет.
***
Ранее утро врывается в раскрытое окно спальни скрипом подъезжающих телег и криками крестьян: это к дубовым дверям высокого овина, выстроенного слева от господского дома, подвозят на просушку снопы. Мать легонько дует Якобу в лоб и он, еще спящий, разнеженный кренделек, трет закрытые глазки тонкими батистовыми рукавами ночной рубашки. Он сладко потягивается в постели — и Ульрика, забывая вздохнуть, замирает над ним в едином для всех матерей, извечном нежном удивленье… Ее удлиненное, остренькое лицо расцветает улыбкой, и она гладит круглый лобик, заостренный плавничок подбородка и выгнутую шейку ребенка, а затем щекотно водит по круглой розовой пятке, торчащей из-под одеяла.
Она сидит на белоснежной — всё оборки и буфы — постели своего единственного сына, здорового яблочно-румяного мальчика трех лет отроду, и — сама наполненная недавним сном, заправляет выбившиеся пряди в тугую прическу, под высокий чепец с кружевами, и потягивается, и улыбается… Ее серые глаза под сенью горячих, почти золотых ресниц, излучают уверенность в завтрашнем дне, свойственную доверчивой юности, ведь жизнь еще не стерла с ее высоких скул рассыпчатые веселые веснушки и нежные скобочки возле губ. И эти знаки явственно проступают на лице Ульрики при любом воспоминании о недавнем задорном девичестве. Она одета в тонкое пикейное платье со множеством кругленьких, похожих на горошины, маленьких пуговок. И Якоб принимается крутить их юркими пальчиками и говорить, говорить взахлеб о том, что приснился ему великан, огромный, как гора, и он убил его золотою саблей, которая висит на стене в отцовском кабинете, и так завораживает мальчика.
Ясеневая кроватка с резным бортиком и кисеёю, пара крутобоких сундуков, длинная скамья вдоль стены, а на низеньком столике — Библия, да еще большое деревянное распятие над изголовьем кроватки с костяною фигуркой Христа, — вот и все убранство этого младенческого мирка, в котором Ульрика чувствует себя счастливейшей в мире матерью. Одно только изображение украшает комнату: большой офорт с гравированным рисунком острых башен и крыш Любека…
У высокого окна, в котором сияет последними звездами предрассветное, зеленовато-голубое небо, висит на медной проволоке клетка. В ней проснулась желтая канарейка, она скачет, и звонко подает голос… Ульрика взглядывает в окно: и видит, как от дома разбегается во всю ширь большой влажный луг, заросший синими люпинами, где лифляндские крестьянки уже принялись накашивать первые стога. Луг опоясывают высокие березы, и Ульрика созерцает, как они, собираясь в стройные ряды, уходят вдаль трепещущей аллей… Аллея ведет в полудикий мызный парк, полный мхов и валежника, и за позволение рубить в нем хворост и драть кору крестьяне отрабатывают в год по пятьдесят пеших дней…
Густой лес окружает мызу со всех сторон. Он наступает, осторожно выплескивается низеньким подлеском: крошечные клены и елки крадутся через покосные луга к дому, и каждый сентябрь здесь вдосталь набираются огромные корзины белых грибов. Иногда из леса выходят любопытные косули и замирают точеными головками, стоя невдалеке…
В центре усадебных угодий плещется рыбное озеро с двумя островками. Озеро наполняется водой от речной плотины, на перекатах которой мостится каменная водяная мельничка.
Хорошо идут дела на мызе Польди Штольмана: охота и рыбная ловля сдаются в аренду деревенским, и они исправно поставляют к барскому столу свежую форель и дичь. В хозяйстве имеется своя кузня, широкая конюшня и каретный сарай, хороший амбар и три кирпичных овина, а также сыроварня и павильон с чудными растениями.
Ульрика слушает пение птиц, оглаживает по маковке дитя, и вспоминает, что уже через два месяца после рождения сына Польди запряг вороного и отвез их в деревню, где в лютеранской кирхе пастор Абель крестил мальчика именем Georg Jacob Stollmann. С тех пор они жили здесь, как в раю.
На крещение к ним приехали погостить родственники Ульрики и несколько военных товарищей Польди, и молодая хозяйка обновила убранство дома. На окнах были развешены новые занавеси; с фортепиано убран чехол, а бронзовые канделябры во всем доме были освобождены из окутывавшей их целый год кисеи. Обитые голубым репсом стулья и кресла сбросили свои коленкоровые накидки, и всюду прислуга прошлась вениками, да метлами. А еще, на всю залу в первом этаже был разостлан огромный ковер, подаренный к свадьбе Штольманов бабушкой Ульрики…
Августовское солнце плеснуло в комнату свои первые лучи, озолотило выбеленные стены и зеленые глазки мальчика… «Вставай, мой кренделек», — говорит Ульрика, и детская болтовня раздается с удвоенной силой, сплетаясь с радостным цвиканьем канарейки, и стрекотом кузнечиков за окном, и тут же к ним присоединяется дрозд, который живет в зарослях дикого винограда, под окнами второго этажа…
Мыза просыпается, и двор наполняется криками горластых петухов, и гоготом выпущенных на волю гусей. Скрипит колодезный ворот, женщины во дворе поют протяжную песню, и облитая светом Ульрика насыпает канарейке семян и наполняет поилку из пузатого кувшина.
Якоб просит попить, но сделав два торопливых глотка, перелезает через бортик кровати и бежит по деревянным половицам к окну. Он с неуловимой ловкостью взбирается на подоконник — мать только ахнуть успела, и упершись крепкими босыми ножками, что есть силы кричит:
— Вернер! Здравствуй! Ты уже вырезал мне свистульку?
Невысокий коренастый старик, с угловатою головою и густыми черными, с проседью, волосами, которые все зовут дикими, отставляет вилы, оборачивается с вершины переполненной телеги, и на весь двор раздается его, похожее на воронье карканье, приветствие:
— Доброго дня, маленький господин! Сделал, как и обещал!
В руке Вернера взблескивает ослепительное солнце, и с маленького стеклышка, зажатого в коричневой ладони, вспархивает солнечный зайчик и перепрыгивает прямо в глаза мальчику. Якоб вскрикивает: «ай-и!», вертится у открытого окна, закрывается манжетой рукава, но старик не дает пощады и совсем слепит мальчишку, и в конце концов беспокойно оберегающая сына мать хватает его за длинную ночную рубаху и стаскивает с подоконника. Зажмурившийся Якоб дрыгает пятками, хохочет во все горло, и не может остановиться! Так Ульрика и несет на вытянутых руках свое хохочущее трехлетнее чудо: на первый этаж, в столовую…
Она сама печет ему свеклу под тмином и накладывает мягкий, еще теплый сыр на белый хлебный брусочек, нацеживает в глиняную кружку молока. Якоб выбегает на двор, едва маменька переодевает его и приглаживает щеткой мягкие длинные вихры. И мир распахивается навстречу огромным ликующим солнцем, встающим над постройками двора, над головами работных людей, над резной зеленью травы и листьев, в которых заливаются дрозды, и над дальними полями мызы.
Ульрика выходит следом за ним на крыльцо. Работницы усадьбы тянутся к ней поздороваться и пожелать хорошего дня:
— Доброго утречка, фрау Штольман!
Вскоре маменька уходит раздавать указания к обеду, и к сбору яблок, и еще следует проследить за стиркой… Мальчик остается на попечении няньки.
***
На ветреном возвышении в торце дома крестьяне наладили первый обмолот. Женщины разложили золотистые снопы вкруг столба, на привязи которого две сильных лошадки тянут волокуши. Работники подхватывают зерна лопатами и провеивают на ветру, собирая в бурт чистые зерна.
Взрослый мальчик водит под уздцы лошадей, и Якоб, выдернув у няньки руку, важно вышагивает рядом. Но ость летит в глаза, и соскучившись, он убегает за дом — под густую таинственную сень, где огромные деревья срастаются ветвями, образуя плотный лиственный шатер. В глубине шатра есть старый, вросший валунами в землю колодец, где, говорят, живет одинокая ведьма Лаума, которая от горя утаскивает у матерей любимых детей… Якоб осторожно заглядывает в сумрак колодца, хотя ему это строго-настрого запрещено! Ухает в него протяжно, и долгое эхо отражается от мшистых зеленых стен… мальчику становится не по себе.
Ведьму в колодце не разглядеть, зато по отвесной стенке из темноты медленно поднялась к Якобу изумрудная лягушка. Она доверчиво повела круглыми глазами и уставилась на него, он замер и стал смотреть на нее, и так они некоторое время изучали друг друга. Мальчик от напряжения еле заметно шевельнулся, и в тот же миг лягушка спружинила и прыгнула высоко вверх! Якоб от неожиданности засмеялся! А подоспевшая запыхавшаяся нянька унесла его от греха к скамье под деревьями.
Тут висят веревочные качели: подвязанная отцом перекладина меж толстых ветвей бука, и Якоб качается до дурноты, а потом свешивается вниз головой и висит так, пристально глядя на перевернутый мир, на плетеную отгородку от скота, на нянькину расшитую красным узором юбку, на тропку, уходящую вглубь тенистого сада…
Потом они спешат к денникам, где нянька долго болтает с конюхом Фридрихом, а мальчик завороженно смотрит, как чистят и запрягают огромных лошадей. Он боится их, ведь они такие огромные! У них ходят бока, и дышат они с фырками, раздувая ноздри, как трубы… Лошади у Польди Штольмана сильные, крепкие как львы, вороные, и спины их лоснятся атласно. Когда их расчесывают, они стоят тихо, только косят на мальчика выпуклыми глазами.
Отец как-то усадил Якоба перед собою в седле, и мать все приговаривала: «Польди, нихт! Ему рано!», а отец усмехался в усы и отвечал покровительственно: «Проедем шагом вокруг дома, не бойся, Ульрика».
Мальчик запомнил это замирание от ходящей ходуном высоты, и ужас, и восторг от поездки в крепких отцовых руках. От отца жутко пахло табаком, и рюмкой яблочной водки, и крепким, трехдневным крестьянским потом — от него всегда так пахло… Сегодня отца не было в конюшне. Якоб вообще видит его редко, в основном по вечерам, когда тот рассчитывает работников…
«Няня, — Якоб дернул болтушку за рукав, — идем к Вернеру!». И они идут с няней по зеленому выпасу, где гуляют красноносые гуси, и они предусмотрительно огибают их по большой кривой: всем известно, как гусаки шипят и дерутся. Зато прямо перед ними встает, покачиваясь на ломких ногах новорожденный теленок, и Якоб радостно гладит его влажный кожистый нос. Корова, как огромная гора, задумчиво жует рядом, но Якоб ее не боится, она пахнет хлевом и молоком, и он звонко целует в нос смешного теленка…
Вернер выстругал ему деревянную саблю, и мальчик до-о-олго сражается с крапивой! Потом бежит к длинному столу, где маменька вместе с помощницами режет пахучие, ароматные яблоки. Ульрика нежно гладит его по щечке, протягивает очищенную дольку, и мимоходом учит счету. Эйнс! цвейнс! дрейнс! — кричит Якоб, и женщины хорошо смеются, отгоняя липкими ладонями надоедливых ос. Невдалеке работники увязывают мешки на продажу — нынче на мызе хороший урожай.
Звон разогретого полудня летит над мызой до легких облачков, а Якоб, присев в траве, наблюдает, как шмели справляют свои будни над золотыми цветками мальв. Якоб играет, пока его не кричат к обеду.
Под ветвями раскидистой березы, за длинным деревянным столом рассаживаются все: и хозяева, и работники. Едят густой картофельный суп, и кнедлики, и свиные, запеченные в тесте ноги, и ушки, и много хлеба, и пива. А потом — ароматные румяные пироги с бузинным чаем. После обеда Якоб, сморившись, засыпает, и мать относит его в спаленку, где тихонько опускает над ним кисейный полог.
Вечером, забежав в дом, Якоб слышит, как в зале бьют тяжелые часы, а мать наигрывает на фортепьяно что-то неуловимо-светлое и задумчивое… Солнце медленно спускается по небу, заполняет вечерним светом нутро дома, и глаза утомленных людей…
После заката, во дворе, отец рассчитывает работников. Он сидит, облокотившись о стол сильными загорелыми руками, рубаха его намокла от пота, и он, ослабив тугой ворот, начинает задумчиво водить пером по исписанной книжице. На столе светит ровным огнем масляная лампа, и вокруг нее вьются искорками мошки. Крестьяне в этой мирной тишине, сняв картузы, стоят и ждут расчета. Якоб же восседает на колене у Вернера, держится за пуговицу Вернерова камзола, и внимательно наблюдает за процессом.
— Благодарим, герр Штольман. Спокойного сна, герр Штольман. — монотонно благодарят мужики, и глаза Якоба слипаются…
Иными вечерами маменька ходит в деревенскую больничку, проведывает бедняков. Тогда она оставляет своего мальчика на Петру, и веселая толстушка Петра приносит ему перед сном тарелочку чищеных вишен, а потом треплет его за ушко, тормошит, целует в макушку, и прижимает к фартучку, от которого сладко пахнет глаженым льном.
Изредка Ульрика берет сына с собой. Как-то Якоб видел, как на гумне кричал молодой работник: его руку затянуло в жернова на обмолоте, и мать всю неделю ходила его проведывать. Парень лежал в избе, слабо улыбался фрау и мальчику, и жена его, и дочери с протестантским смирением благодарили Ульрику за подарки и мази.
Каждое воскресенье к ним наведывается пастор Абель, просветленный после общей молитвы в кирхе. Еще приходит мельник с белокурою востроглазой женой и тремя мальчиками-погодками. Мельниковы мальчики так похожи один на другого, словно хорошая кондитерская наварила свежих эклеров: беленьких, воздушных, с черными изюминками глаз — маленькие копии своей матери. Иногда приезжают соседские мызники или маменькины сестры с детьми из Дерпта, и все они садятся за праздничный щедрый обед. И маменька опять играет на фортепиано, и гости слушают, а Якоб тогда немного проказничает с ребятней.
Перед сном Якоб всегда просит у Бога здравия маменьке, и домашним, и хорошего урожая отцу, а еще — чтобы отвезли его на широкое поле подсолнухов, которое волнуется солнечными головками под бескрайним голубеющим небом. Мама читает ему на ночь из старинной немецкой книжки древние сказания о море у крутых скал, о тевтонских рыцарях и песнях немецких дев, и у Якова счастливо путается в голове: он засыпает, умиротворенный. А назавтра его ждет еще один, полный открытий и веселой беготни день.
Когда Якобу исполнилось четыре, отец разрешил ему сбегать вдоль пруда — по тропинке — до мельницы, в сопровождении охранной собаки. Гордый собой, маленький Штольман отправляется в неблизкое путешествие, и, изведав немало приключений, долго резвится с мальчиками на реке.
Когда же наступает зима, и мороз расцвечивает окна льдистыми цветами и листьями, закутанный в тулупчик Якоб ходит вместе с Верманом удить рыбу в озерной полынье. А к Рождеству его возят на санях в деревню колядовать с деревенской ребятней.
Как-то летом, аккурат перед пятилетием сына, Ульрика позвала сноровистого художника и заказала ему две работы: большой поясной потрет Якоба и точь-в-точь такой же миниатюрный — чтобы носить на груди. Целую неделю Якоба наряжают в красный кафтан, напомаживают непослушные волосы маслом — так, что кудри делаются прилизанными, как у пастора Абеля; и устраивают в кожаном кресле отцовского кабинета, где ему нестерпимо скучно сидеть.
Мальчик разглядывает со скуки львиные лапы на старинном комоде. Разглядывает висящие на стене два блестящих двуствольных ружья, а между ними — золотую саблю Генриха… Он ждет, пока затеплят на камине две свечи, и войдет отец: сядет на оттоманку, покрытую верблюжьим одеялом, и скажет ему несколько ободряющих слов.
Художник работает споро и нестрого, и вскоре уже разрешает мальчику стоять, опершись на подушку, когда он хочет, и Якобу становится веселее. Потрет вышел гладеньким, но мать осталась довольна, и картину торжественно повесили рядом с оружием.
***
Якоб жил на свете уже шестой год, когда тревожные вести о том, что российский император хочет отнять у остзейских дворян власть и волю, заполнили их дом… Отец ездил в Дерпт на заседания ландтагов, где мызники Лифляндии, большие и малые, взволнованно спорили и решали между собой, как сделать так, чтобы и русскому царю угодить, и не позволить балтским крестьянам заиметь паспорта и плюнуть на многовековую барщину. Дворяне сопротивлялись, но крестьянские бунты и недовольство делали свое дело. Царь уже покусился на дворянское право телесных наказаний, а теперь хочет отнять последнюю силу?
Польди приезжал домой мрачный, полный сварливого гнева. Он выпивал по вечерам больше обычного, и Ульрика с сыном старались не попадаться ему на глаза… Он теперь все время боялся. На войне не боялся Польди, а нынче страх обваривал его душу, как кипящая смола. Он боялся, что время и чужая власть опять сомнет семейство Штольманов, как слабую ветку, и им придется бедовать… Что, если остзейских дворян лишат последнего? Как он это переживет? Он уже терял всё, и мочи терять снова у него почти не осталось… Мыза, доставшаяся ему такой болью и кровью, его мыза, на которой они так счастливо жили эти годы, стала приносить меньше дохода, и Польди горевал… Но он помнил, что один выход всегда есть.
Жизнь научила Польди Штольмана простой мудрости: разорившегося немца всегда выручает война. Войн в Европе веками водилось в избытке.
А еще жизнь вот этому скверному страху научила Польди: всё, что есть у него, может рухнуть в одночасье. И сын его останется ни с чем, и род Штольманов не выживет… Стало быть, надо снова быть готовым ко всему, решил 50-летний Польди, и пора научить этому сына: Якоб должен стать солдатом, хорошим солдатом!...
В эту пору в заполненный тревогой мызный дом приехал погостить к Польди давний его товарищ по Польской кампании, штабс-капитан Новицкий — такой же продубленный порохом, и сильный, как Штольман, но нрава совсем другого: громкого, бесшабашного. Якоб подслушал, как старые вояки вспоминали былые деньки, хмелея от имбирного пива, как дымили трубками и пели шальные песни. А когда капитан все же заметил его, подглядывающего из-за двери, и поманил, хохоча белыми как, чеснок зубами, то Якоб подбежал к нему без боязни, взобрался на колени, и дернул капитана за ус. Тот развеселился еще больше, и позволил Якобу поиграть с оружием.
И гость был веселый, и отец чуть размягчел, но маменька почему-то все больше таилась, и бродила по дому с красными глазами. Однажды Якоб услышал, как Ульрика, заламывая тонкие руки, умоляющим голосом говоила:
— Польди, но может быть, отдадим его в Дерптскую гимназию? Выучится, станет профессором…
— Никакой гимназии, только корпус. — отрезал Польди, — он должен быть солдатом, тогда не пропадет.
И мать зарыдала, горько, безутешно.
Вскоре Новицкий уехал, увезя с собой в Петербург письмо, которому надлежало перевернуть судьбу маленького Якоба Штольмана. Письмо было адресовано барону Шлиппебаху, недавно еще служившему директором Первого кадетского корпуса, а ныне — исполняющему обязанности инспектора военно-учебных заведений империи.
Через месяц от барона пришел ответ, что он, конечно же, помнит бесстрашных Штольманов, а особенно немецкого своего брата Генриха! И охотно поможет с устройством младшего Штольмана в кадетский корпус.
…Ты только держи меня крепче, не отпускай, мама. Если я не почувствую жара твоей руки, то потеряюсь навсегда. Спрячь меня, мама, спрячь от войны и чужих людей, от огня и дыма. От горькой правды и тоски — спрячь. Укрой меня, мама, покрывалом своих волос, не отдавай злой ведьме Лауме. Не отдавай меня в солдаты, мама!...
Рыдающая мать обнимает Якоба в последней тоске, прижимает к синему шерстяному платью, к золотым своим ресницам, и побледневшим веснушкам, но не может изменить ничью судьбу… Неумолимый, строгий отец отрывает от нее сына, вскидывает на плечо, и несет бунтующего мальчика в сани, которые помчат их сначала в Дерпт, а потом в огромный порт, где они сядут на корабль и отправятся в холодный, чужой Петербург.
Маменька умерла от тоски и горя уже через год, и Якоб больше никогда не видел ее…
***
В марте 1874 года в гудевший работой кабинет на Офицерской, к столу 24-летнего чиновника столичного Сыска, коллежскому асессору Якову Платоновичу Штольману, тиская в руках хорошую шапку, робко подошел согнутый годами и горем старик. Он был сморщен, почти лыс, и только усы его, густые, белоснежные, да голубеющие в коричневых складках кожи глаза выдавали былую стать. Яков поднял голову от бумаг, враз оледеневшим сердцем узнал в просителе отца, и не смог произнести ни слова…
— Умоляю. — дрожащим голосом, по-немецки выплакал Польди. — Умоляю, помоги Курту!
— Здравствуй, отец, — дрожащим голосом выговорил Яков.
— Мой мальчик… — прошептал Польди.
Боль была огромной, огромнее Якова, она не помещалась в груди, распирала ребра так, что дышать почти не получалось. Он скрутил эту ноющую в груди струну, встал из-за стола, подался к Штольману-старшему, потянулся — обнять…
— Мой мальчик… он страдает… Я умоляю тебя, Якоб, помоги ему!
Якоб отпрянул, и закусил руку, до боли, до слез. Чуть справившись с собой, он спросил:
— Что случилось, отец?
И Польди рассказал: Курт Генрих Штольман, шестнадцатилетний кокаинист, единственная любовь и отрада Польди Штольмана, доставшаяся ему от второго, маетного, полного страсти и горя брака с русской актрисой, которая бросила мужа и сына, и сбежала с любовником в Италию, пропал.
Польди, давным-давно продавший мызу и осевший в Петербурге, успевший послужить в Военном департаменте интендантом и теперь доживающий свой век на Васильевском мирном острове, не знал, куда и броситься на поиски. Все знакомые сочувствовали его беде, но разводили руками. Куда ходит Курт, где прожигает небольшие отцовские деньги, Польди не знал…
Яков принял официально оформленное прошение Штольмана-старшего. Смиряя сердце, он предпринял все, что мог и умел, и через три недели нашел Курта, бледного, синюшного мальчика в каком-то тихом притоне в Галерной гавани, где блиннолицые китайцы варили опий, а в коконах затхлых одежд лежали по лавкам бледные тени невменяемых людей. Он крепко встряхнул мальчугана, но голова Курта бессильно обмякла. Пришлось взвалить его на плечо, и вынести на свет Божий, на воздух, под мартовское столичное небо.
При свете дня Яков рассмотрел брата, и с ревнивым горьким чувством узнал и характерный штольманов подбородок, и высокие скулы, которые не сумела скрыть многодневная, мягкая, как у ягненка, щетина…
Мальчишка был плох. Яков намеревался определить его в лечебницу, но сначала все же повез к отцу. Где-то в глубине острова, в заросших деревьями тихих двориках он разыскал домик Польди, и постучал в дверь.
Едва увидев Курта, завернутый в шаль старик заохал, запричитал и сделался совершенно помешанным. Яков испугался за его рассудок, но стоять на пороге было негоже, он тяжело вздохнул, взвалил брата на плечо и перенес его в залу, на софу. Курт застонал, и старик бросился накрывать сына одеялом.
— Отец, Курта следует срочно определить в лечебницу. Он может не пережить весны, — сказал Яков и сморщился от спертого воздуха жилища.
— Что?! Какая лечебница, Якоб. Ты сумасшедший? Мальчик останется дома, здесь, со мной. — проговорил дребезжащим голосом Польди.
— Отец, я сейчас его заберу… — с мягкой настойчивостью повторил Яков.
-Нет! — взвизгнул тоненьким фальцетом Польди и пошел грудью на Якова. — Не позволю забрать его у меня!
Яков молча смотрел на него, и Польди вдруг осекся, оборотился к софе, зарыдал, сотрясаясь всем телом, и сквозь рыдания Яков услышал:
— Вот бу-уэет-у тебя с-с-в-вой-сы-ын-н. Т-тогда… п-пой-мешь м-меня.
У Якова натянулась на фамильных скулах кожа, и — словно бы зазмеилась горячими трещинами. Стало так нестерпимо больно.
Маменька и ее протянутые руки,
золотая сабля отца, которая так нравилась маленькому Якобу…
— Прощайте, герр Штольман. — негромко бросил он в согбенную спину Польди, вышел в переднюю, и следом — толкнув дверь — под мартовское небо Петербурга.
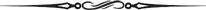
Содержание


 -->
-->





 Будут ведь еще главы о формировании его характера.
Будут ведь еще главы о формировании его характера.
