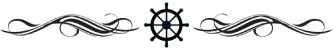
Эпилог
Малахов курган

Через всю жизнь пронёс Иван Яковлевич Штольман свой собственный образ счастья. Был он с ним в ту черную ночь в середине тридцатых, когда сидел один в опустевшем доме после похорон отца и матери. Этот образ согревал и баюкал, когда много дней капитан медицинской службы плыл между жизнью и смертью в госпитале в сорок втором году. И воплотился вновь наяву в то послевоенное лето, когда он нашёл свою единственную любовь и судьбу...
Счастьем для Ваньки Штольмана навсегда оставался поезд. Невозможно яркое солнце над овеянными славой недавних боёв гражданской войны Сальскими степями. Горластые тётки, продающие на перронах пирожки, арбузы и вишню. А на украшенном кумачами вокзале Царицына играет военный оркестр. Этот вокзал довелось ему видеть всяким. В том числе вдребезги разбитым, обугленным и чёрным, каким он был, когда немецкий снайпер забавы ради подстрелил врача, тащившего с поля боя раненого. И перед угасающим взором Ивана Яковлевича, упавшего за парапетом фонтана, кружились изувеченные дети, несмотря на войну всё ещё водившие хоровод вокруг своего крокодила. А он думал, соскальзывая в бред, как станет их лечить, и куда накладывать гипсовые повязки. Дожил он и до того дня, когда они вновь встали перед восстановленным вокзалом – здоровые и счастливые. Дорогами войны носило его от Сталинграда до Мурманска, от Мурманска до Кенигсберга. И военные эшелоны – теплушки и набитые вагоны санитарных поездов - вовсе не походили на светлый поезд его детства. Но всегда лучше всего ему спалось под стук вагонных колёс.
Счастьем было задремывать на верхней полке, а потом просыпаться – и жадно вбирать в себя бесконечные просторы, пока глаза вновь не начинали смыкаться, нахлёстанные горячим ветром с запахом паровозного дыма. Счастьем был толстенный том «Графа Монте-Кристо» дореволюционного ещё издания, с ятями и ерами. Продираться сквозь них поначалу было не так-то легко, но Ванька не жаловался, понимая, что с матери сталось бы заставить его читать и по-французски. По дороге в Крым он книгу только начал, а в Севастополе с чтением как-то не задалось – всё никак не хватало времени в бесконечной смене впечатлений и дел. Так что «Графа» Иван глотал уже в обратной дороге. Но образу счастья было безразлично, идёт поезд туда или обратно. Всё слилось в неразрывном единстве, которым стало это самое невероятное в его жизни лето.
И когда бы ни привелось Ивану оказаться в этом странном поезде счастья, в купе рядом с ним всегда были родители. В чём-то белом, очень молодые, какими не знал их в жизни. Но память почему-то упрямо подменяла реальную картинку чем-то невозможным, но, видимо, правильным: темноволосый отец улыбается открытой мальчишеской улыбкой и говорит какую-то колкость, а совсем юная мать укоризненно качает головой, изо всех сил пытаясь казаться строгой, но в глазах так и скачут озорные бесенята.
В действительности отец ворчал, что половина отпуска ушла у них на дорогу, а мать напоминала ему, что на самом деле они оба очень любят поезда. И пароходы. И гостиницы. Потому что там есть каюты, купе и номера. Ванька отворачивался к окну и ехидно скалился, понимая, что она имеет в виду. Когда-то в молодости они странствовали без остановки целых два с половиной года. Старший брат Митя родился у них аккурат в конце этой дороги. Ясное дело, что в закрытом купе им нравилось больше, чем где-нибудь в шатре на горном перевале, где ещё и лавина может сойти.
Может потому ещё он упрямо представлял их молодыми, что в дороге у них бесконечно всплывали темы из каких-то незапамятных времён, и вовсе неподобающие деду с бабкой. Хоть бы и ждал их в Затонске первый внук Яшка, а на подходе был уже второй. Но отца до сих пор заботило что-то давно минувшее. Однажды, кивнув на увесистый том «Монте-Кристо», Штольман спросил:
«- А ты бы ждала, если бы меня вот так… закопали на много лет?»
«- Ну, конечно! Яков Платоныч, опять эти глупости?» - строго сказала мать, но потом не удержалась и взъерошила ему волосы на макушке.
А Ванька смотрел на них и думал: а смогли бы они с Шурой так? Много лет говорить об одном и том же - и друг другу не надоесть...
* * *
То крымское лето было одновременно коротким и очень длинным. Коротким, когда Иван глядел на календарь и понимал, что отпускное счастье заняло в общей сложности не больше месяца. И длинным, когда вспоминал, сколько всего в него поместилось. Вначале была жуткая история с Костиной смертью. Но потом она словно отодвинулась куда-то, оставшись на дне души холодным камушком, а наяву её заслонили купания в тёплом море и «археологические» вылазки на Херсонес, во время которых Юрке повезло найти настоящий клад – каменную плиту с высеченными на ней выпуклыми фигурами мужчин, женщин, крылатых коней. Плита была здоровенная, откопать её всю ребятам было не под силу. Они ходили к ней несколько раз, отколупывая понемногу закаменевший грунт и обнажая всё новые изображения. Откопав воина со всеми анатомическими подробностями, Алик начал было хихикать, но вся компания сообща решила, что, наверное, ничего в этом не было такого, раз эти изображения помещали на стенах храма. Юркин папа-инженер сказал, что плита, которую они нашли, называется «фриз», её устанавливали под фронтоном храма, и всё, кто приходил молиться, на неё смотрели. А голыми древние греки изображали своих богов.
Ваньку же поразили на этом фризе вовсе не фигуры мужчин со всем положенным хозяйством, а то, как изображались женщины – вроде и одетыми, а все складки обрисовывали выпуклости женской фигуры, и стыдного в этом не было вовсе, а в то же время – волновало. Ему запало в голову вырезать вот так Шуру. Чтобы она стояла у моря, а ветер развевал её волосы, и платье облепляло стройное тело. Он даже выпросил у ребят тайм-аут на денёк, чтобы в покое сделать статуэтку. Резал и досадовал, что всё равно не получается так, как у древних греков. В последний момент он решил не пытаться сделать Шурино лицо. Во-первых, наверняка не получится, а во-вторых, неловко, если она узнает в таком виде себя. Всё равно же придётся ей эту фигурку дарить. И без того, когда он на Шуру смотрел, становилось вдруг как-то тревожно, и сладко, и горячо, так что он на месте усидеть не мог, ощущая непрошенную тяжесть… Совладать с этим можно было, если как следует отвлечься: на ныряние, брызгалки или борьбу - с Дюшей лучше всего, потому что тогда приходилось напрягать все силы. У Алика против Ваньки всё же кишка была тонка, а Юрик и вовсе маленький.
Алик на самом деле оказался пацаном ничего так, нормальным. То ли на него тоже подействовала Костина смерть, то ли он и впрямь не был таким плохим, каким показался сначала, но в конечном итоге с Иваном они поладили. Временами, конечно, он ещё выкидывал что-то такое, за что его хотелось прибить, но Ванька научился, подобно ребятам, бороться с этим чувством. А острый язык помогал успешно ставить на место зарвавшегося приятеля.
Дюша был, конечно, лучше всех. С ним можно было говорить о серьёзном, до чего ещё не доросли ни Алик, ни Юрка. О смысле жизни, например. Особенно задушевно получилось после того, как ездили в Качу – смотреть на аэропланы. Фанерные птицы с деловито кудахчущими моторами разбегались по ровному полю, а потом начинали взбираться всё выше и резвились в синеве, выписывая «бочки» и «иммельманы», словно сами по себе, а не управляемые загорелыми, белозубыми военлётами. У Дюши при виде них так глаза горели, что суровый с виду инструктор внезапно сжалился и взял его с собой. Этот полёт обошёлся без фигур пилотажа: просто взлетели, дали круг над полем и вернулись. Но Андрей после выглядел так, словно у него самого в груди мотор, он может разбежаться и взлететь без аэроплана. В ту ночь он домой не пошёл, они с Иваном устроились в углу сада Краузе, на сене под звёздами, и проговорили почти до утра. Неважно даже, о чём. Важным было это чувство душевного единения с другом и со всем лучшим, что есть во вселенной.
Андрей сказал:
- Хорошо всё же, что ребята нам тогда не дали наделать глупостей. Вот как бы я жил без неба, без надежды на полёт?
Ванька вспомнил тот день и поёжился от неловкости; воспоминание было не из тех, что приятно хранить. Но да, ребята тогда оказались мудрее их обоих. Особенно маленький Юрка.
- Дюш, я тут подумал… а если вдруг здоровья не хватит? Ну, мало ли, всяко же бывает. Вот, как Алик. Хотел он, что ли, туберкулёзом заболеть? Вот как тогда?
Но в эту ночь Тимченко категорически не желал думать о том, что есть на свете что-нибудь для него невозможное.
- Так ты меня вылечишь. Ты же доктор! Или как?
«Или как», - едва не ответил Ванька в ехидной Юркиной манере. Почему-то именно сегодня он острее всего ощутил, что стать доктором будет невероятно сложно. Одних языков сколько придётся выучить, включая мёртвую латынь. А он и так столько лет потерял, пока беспризорничал, да и сейчас учился не то чтобы блестяще. Алику он в этом никогда не признался бы, но Дюше можно было.
- Думаешь, у меня получится? Это же не просто лопух на рану привязать или луковицу сварить в молоке.
Андрей отвлёкся от созерцания звезд и зашуршал сеном, разворачиваясь к нему:
- Ну, ты ведь хочешь, так?
- Хочу, - признал Ванька.
- Значит, обязательно получится. А ты каким доктором хочешь стать? Детским, зубным или там по туберкулёзу?
Ответ на это Иван уже знал:
- Хирургом, наверное.
- Хирургу твёрдая рука нужна. Ты поэтому вырезаешь всё время? Тренируешься?
Сам Андрей тренировался каждую свободную минуту, изобретая какие-нибудь испытания для силы, равновесия и воли. Неловко даже признаваться было, что резать по дереву Ванька начал задолго до того, как у него появилась мечта.
- Ну, нет, пожалуй. Я это всегда любил. Ещё до того, как мать меня нашла. Это потом уже оказалось, что в жизни оно пригодится.
- С родителями тебе повезло, - признал Дюша, снова опрокидываясь на спину и улыбаясь небу.
- Повезло, - сдержанно признал Иван.
Это было нечто такое, о чём нынешним летом он задумывался очень часто, но обсуждать с кем-то был пока ещё не готов. Потому что оно было… чем-то таким, из области непознанного. Самому бы разобраться.
- А вот Аркашке не позавидуешь, - внезапно вспомнил Тимченко.
Об Аркашкиной судьбе им на днях рассказала Шура. Она поддерживала связь с вожатой Лидой и новости узнавала от неё.
«- Ой, мальчики, там всё хуже не придумаешь! Отправили в колонию под Харьков. В этом Куряже, говорят, как в аду. И он там с настоящими преступниками, их чуть не тысяча человек. А он же не преступник, он просто… ошибся!»
«- Жалостливая ты, Шура! – укоризненно заметил Карасик. – А на самом деле это ведь преступление и есть. Не стал бы он Костика запугивать, на прочность испытывать, так мы бы сейчас вшестером гуляли».
Алик тоже не горел желанием развивать эту тему, потому что и он не брезговал когда-то испытывать на прочность Костю Твердохлебова. По его лицу было видно, что сейчас он опять какую-то гадость сморозит. Андрей это понял и срочно сменил тему.
Иван тоже не стал ничего говорить вслух, хотя он-то, в отличие от друзей, хорошо знал, как выглядит этот ад. Промороженные стены, голые кровати, с которых постель давно покрали. Постоянный голод, вши и сон в полглаза, потому что всегда найдётся тот, кто захочет учинить какое-нибудь непотребство над тем, кто слабее. В этом смысле практически все приюты были одинаковы, а сколько он их повидал, из скольких сбежал. Домашнему Аркашке, привыкшему к безопасности и сытости, там и впрямь будет трудно. А с другой стороны, может и прав жестокий, но справедливый Юрка. И Аркадию просто необходимо попасть в какое-нибудь чистилище. Чтобы голова на место встала. И тогда может быть придёт кто-то из иного мира – сильный, добрый и мудрый – и отведёт за руку в иную, лучшую жизнь. Потому что, не очистившись, ведь любую хорошую жизнь испоганить можно.
А сам он своё чистилище прошёл? Заслужил то счастье, что на него свалилось? Три года назад он вполне себе бестрепетно лазал в форточки и «бомбил фраеров», а потом кинулся с ножом на сотрудников ТверЧК, бравших Жихаря. А его такого просто приняли безо всяких условий, отмыли в бане и дали право носить славное имя… словно были так сразу уверены, что он его не опозорит. А очищался он уже сам, помаленьку… до сих пор чистится.
Дюша давно уже едва слышно сопел рядом, а к Ивану сон не шёл. Его словно распирало изнутри что-то громадное, трудное и значительное. И хотелось немедленно совершить что-то замечательное и гордое, чтобы доказать всему миру и себе самому, что достоин. Но от него по-прежнему не требовалось никаких доказательств, а мир был добр и прекрасен, и от этого щипало в носу. А он всего лишь мальчишка на сене. А над ним громадное южное небо. И звенят торжествующим хоралом то ли сверчки, то ли звёзды. И он поклялся этому небу, что его жизнь обязательно будет величественной, прекрасной и нужной! Но изнутри всё равно продолжало давить что-то такое, от чего хотелось то ли заплакать в восторге, то ли взлететь. И он вдруг понял, что, видно, так приходит к нему взросление.
* * *
Пока он гонял с ребятами по обрывам и плескался в море, родители редко были рядом. И так у них всё пошло наперекосяк с этим отпуском. Отец ехал, чтобы отыскать родную могилу, а сам погряз в расследовании. Мать ехала лечить отца, но вместо этого снова нашла себе на голову педагогических обязанностей. Правда, Штольман сам неплохо поправлялся. И даже кашлять со временем перестал. Слава богу, что это был не туберкулёз! Алику вон Чёрное море не больно-то помогало.
Когда всех виновных в смерти Кости Твердохлебова арестовали, родители получили возможность заняться своими делами. Дела эти чаще всего сводились к поездкам по местам боёв давней Крымской войны. Ванька со Штольманами не ездил, а они и не настаивали. Мало весёлого было в посещении, скажем, Братского кладбища, что стояло опустевшее и заброшенное где-то на холмах Северной стороны. Туда свозили погибших во время осады офицеров и нижних чинов. Отец осматривал надгробия, мать разговаривала с духами. Но на Братском кладбище не отыскалось могилы артиллерийского капитана Штольмана. Отец расстроился, но сказал, что рано прекращать поиски:
- Помню, мать говорила, что он погиб при взрыве. Может, нечего было хоронить? Или его убили в последние часы перед отступлением, и тело вывезти не успели.
Обошли все бастионы, ездили в Балаклаву и на Инкерман. А однажды, наняв на весь день пролётку соседа Петровича, даже двинулись в сторону Евпатории - туда, где посреди выжженных холмов стоял белый обелиск всем погибшим в битве на реке Альме. Хотя это, по батиному мнению, было вовсе уже сомнительно. Сколько он помнил, отец погиб в конце осады, а сражение при Альме было в самом её начале. Документов же не сохранилось вовсе, весь семейный архив пропал, пока Яков учился в кадетском корпусе.
Почему-то на самый конец своих поисков батя оставил Малахов курган. Хотя на этой высоте Корабельной стороны шли самые ожесточённые бои Севастопольской обороны. Так совпало, что туда родители отправились в самый последний день, аккурат 24 августа - в годовщину начала последней ожесточённой бомбардировки города войсками интервентов. Хотя Штольман напомнил, что, строго говоря, нынче эта дата падает по новому стилю на 8 сентября, совпадение всё равно вышло символичным. Может статься, что во время этой бомбардировки и взлетела на воздух батарея, где держал оборону батин отец.
Это было как раз после той оглушительной ночи под звёздами, когда Иван ощутил в себе нечто такое, чему пока ещё не мог дать названия. Просто тогда он вдруг со всей ясностью понял, что этот день должен провести не с друзьями, а с батей и мамой. Так было правильно.
Подъём в гору, к остаткам каменной Корниловской батареи был не очень короток и по летней жаре совсем не прост. Родители не торопились, экономя силы и стараясь держаться в кружевной тени вездесущих сорных клёнов, по-южному высоких акаций и могучих разлапых каштанов. На кургане было пусто, только ветер шумел в листве. Ванька шагал рядом с отцом и думал, что теперь это и его дело, раз он Штольман. Батя не раз напоминал ему, что его настоящий отец – капитан Бенцианов - тоже погиб геройски в болотах Восточной Пруссии. Ивана Бенцианова Ванька уважал, но как-то вчуже. Отца он совсем не помнил, и родная мать почти не рассказывала о нём. То ли больно было ей вспоминать, то ли что-то не слишком ладно у них в жизни складывалось. Так и вышло, что ничего он не знал про взрослого своего отца, сгинувшего в империалистическую. А Штольманы помнили только маленького беспризорника Ваню, которого им удалось спасти от бандита Лёньки и пристроить к «доброй барыне» - старой помещице Бенциановой. В общем, так получалось, что и тут Ванька был обязан в своей жизни Анне Викторовне и Якову Платоновичу.
- А бабка моя – она какая была? – внезапно спросил он.
Отец выдохнул резко, словно это был не слишком приятный вопрос, потом неохотно ответил:
- Непростая она была, характер не сахар. Стоило труда в чём-либо её убедить. Замкнулась в своём горе.
- Не будем её осуждать! - вмешалась мать. – Никто из нас не был на месте Антонины Марковны. Но она всей душой приняла Ваню, дала ему воспитание. И за тебя очень волновалась.
Об этом Ванька знал от братьев Климовых – приёмышей Егора Александровича Фомина. И они-то уверяли, что бабка была вовсе не добрая, а весьма даже вредная – вселялась в учителя и всячески на них ругалась, что они не понимают, чего она от них хочет. А хотела она, чтобы Анна Викторовна его нашла. Получается, Антонину Марковну устраивает, что он теперь тоже Штольман? Этого она добивалась? И если бы не она, повезло бы ему так – кто знает! Загнали бы в какой-нибудь Куряж или убили в очередной облаве. Или взяла бы на воспитание какая-то «добрая барыня», нужна она ему сто лет! Своей нынешней участью Иван был доволен и горд. Может, потому он и увязался сегодня с родителями, чтобы доказать самому себе, что поиски капитана Платона Штольмана – это его семейное дело.
Но, кажется, его вопрос навёл батю на какие-то вовсе другие мысли. Он резко выдохнул и как-то очень тоскливо произнёс:
- Вот так живёшь набегу, а потом обнаруживаешь вдруг, что рядом нет никого из тех, кто знал тебя ребёнком. Или хотя бы молодым. И тогда понимаешь, что твоё время уже прошло.
- Да брось, бать!
- Не перебивай. Я и сам прекрасно собьюсь.
- Собьётся! – подтвердила Анна Викторовна, беря мужа под руку.
Он виновато улыбнулся, но сделав над собой усилие, продолжил:
- И наступит момент, когда тебе захочется понять, кто ты есть. Почему ты прожил именно так, а не иначе. И тогда, возможно, ты тоже решишь отыскать могилу своего отца. И вот когда придёт твой черёд блуждать среди могил…
- …не забывай о тех, кто жив и рядом! – вдруг перебила мать.
Это ли хотел сказать отец, или нет, так и осталось тайной. В семье предметом постоянных шуток было его красноречие, весьма далёкое от римского оратора Цицерона. Но спорить с Анной Викторовной Штольман не стал. Потому что она, в самом деле, верно сказала. Так ведь оно и вышло: ехали искать погибшего, а время потратили на живых, которым нужна была помощь.
Ванька хотел возразить, что и так знает, кто он есть. И что, если доведётся, он будет знать, куда ему пойти. Он даже открыл рот, но промолчал, чтобы не накликать. Категорически ему не нравилось, когда батя начинал вот такие разговоры. Довелось же ему вспомнить об этом много лет спустя, в Кенигсберге. Он вышел из госпиталя. Солнце клонилось к закату. Потёр усталые глаза, присел на чурбак, на котором кололи дрова для походной кухни – и поразился вдруг наступившей тишине. Сквозь привычную и осточертевшую вонь остывшего пожарища, пороха, крови и гноящихся бинтов настойчиво пробивался какой-то иной запах. Иван Яковлевич поднял голову и увидел над собой цветущие ветви черёмухи. И понял, что он в Восточной Пруссии. Что едва ли он сумеет найти в этом городе могилы русских солдат времён Первой мировой. И что после демобилизации ему непременно нужно в Затонск. А ещё - в Севастополь. Бог знает, почему…
Но 24 августа 1925 года об этом он знать ещё не мог. А потому и не стал думать вовсе. Вместо этого спросил:
- Бать, а если ты его и здесь не найдёшь? Тогда как?
Отец вздохнул, но ответил не сразу, а лишь сделав несколько десятков шагов. Ванька уже и ждать перестал.
- Я думал об этом. Он давно уже стал этой землёй, этим городом. Получается, я всё равно с ним повидался.
На кургане было много обелисков. Но остановились они перед здоровенным крестом, выложенным на земле пушечными ядрами. Даже в нынешние времена, когда всем стало ясно, что никакого бога нет, этот крест никто не посмел тронуть. Его выложили из французских ядер защитники города. Ванька подошёл ближе и прочёл надпись на чёрной табличке: «В этом месте 9 октября 1854 года смертельно ранен вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов». Фамилия нехорошо напоминала белого генерала отгремевшей совсем недавно гражданской войны. Но в Севастополе она навсегда принадлежала другому. Тому, кто оспаривал приказ князя Меншикова затопить флот, но когда его в наказание собирались отправить в Николаев, отказался покинуть осаждаемый город: «Остановитесь! Это — самоубийство - то, к чему вы меня принуждаете… Но чтобы я оставил Севастополь, окружённый неприятелем — невозможно!» Тому, кто организовал оборону и не кланялся бомбам, а когда одна из них его всё же нашла, сказал, умирая: «Отстаивайте же Севастополь!» Об этом ребята рассказывали Ивану с гордостью, словно флотоводец из тверских помещиков был их собственным предком. Так здесь относились ко всем погибшим во время осады.
Получается, что и к Платону Штольману тоже?
Постояли в молчании, а потом двинулись одной из многочисленных тропинок, что вели от памятника к памятнику, от таблички к табличке. Подле одной мать внезапно остановилась, уставившись в пустоту. Ванька с отцом торопливо подошли к ней.
- Это здесь, - глухо сказала она.
На табличке, укреплённой поверх гранитной плиты, было немногое: даты – 1854-1855 и надпись «Батарея № 84 Никифорова». Про эту батарею ребята ничего не рассказывали Ивану. Должно быть, она и не была какой-то особенной. Просто одна из многих, где сражались и умирали защитники Севастополя.
- Французская граната попала в пороховой склад, - тихо сказала Анна Викторовна. – Никто не спасся.
Она отпустила руку мужа, которую всё это время сжимала, и положила поверх таблички алую веточку сальвии, которую неведомо когда успела сорвать. Штольман молча смотрел куда-то в пространство, и левое веко у него заметно дрожало. Мать снова приникла к его плечу.
- Он очень похож на тебя, – шепнула она.
- Да это я на него похож, - ответил отец, коротко дёрнув щекой.
- Ты был таким сорок лет назад, - грустно напомнила мать.
Ванька тоже уставился туда, куда они глядели, но видел только переплетение кленовых ветвей. И с досадой подумал: «Жаль, что только мать может видеть деда!»
Впервые он так назвал далёкого и чужого ему по крови Платона Михайловича. И вдруг понял, что это правильно. Что у него, беспризорника и сироты во втором поколении, тоже есть дед – человек в старинной офицерской шинели, с суровым лицом Штольмана. И этот дед стал теперь Севастополем: синим морем и жёлтыми обрывами, кораблями в бухте, крутыми лестницами-трапами, памятником затопленным кораблям, возле которого купается детвора. Ванькиными живыми друзьями – Андреем, Аликом, Юркой и Шурой. Мирным летом 1925 года, сыщиком Яковом Штольманом, Верой и Митей, а теперь и племянником Яшкой. И самим Ванькой. И всем тем, что ему дорого, что он никогда уже не забудет… и что не отдаст никому!
* * *
На затонском вокзале их встречала неожиданно внушительная толпа. Кроме Веры и Васьки, державшего на руках недовольного пыхтящего Якова Васильевича, был ещё начальник РОВД Сергей Степанович, журналистка тётя Лиза со своим Редькиным и целая стайка учительниц во главе с завучихой Авророй Семёновной. Это они тут в честь 1 сентября собрались?
- Что-то в школе? – встревожилась мать.
- В школе всё в порядке! – хором ответили учительницы. И всучили ей букет лохматых осенних астр.
Васька с Евграшиным приняли чемоданы, но не спешили нести их в Гидру Империализма, которая виднелась у выхода на перрон. Напротив, оба целеустремлённо двинулись куда-то в сторону вокзального ресторана.
- Поезд на Ленинград через час, как раз успеем, - пропыхтел начальник угро.
- Загадками говорите, Василий Степанович! – усмехнулся Штольман. – Зачем нам ленинградский поезд?
- А затем, папочка, что сейчас мы все выпьем, и вы поедете дальше, - ехидно выгнула бровь сестрица Верка. Но не стала тянуть интригу. – У Мити сын родился!
Мать всплеснула руками:
- Как? В ноябре же должен был!
- Да вот, нетерпеливый он, в папу, видать. Не стал дожидаться. Да не волнуйтесь вы так, всё нормально! – принялась убеждать сестра. – Митя телефонировал, говорит: сосёт, что твоя помпа. И растёт не по дням, а по часам. Вы уже в дороге были, ну мы и не стали вам сообщать. Решили, что сами всё увидите.
- А вся эта депутация от трудовых коллективов – чтобы сломить наше сопротивление? – насмешливо поинтересовался отец.
- Так мы ж вас знаем, Яков Платоныч, - усмехнулся в бороду Евграшин. – Стало быть, вам ещё неделя отпуска. Внук – он хоть и не первый у вас, а тоже не всякий день они рождаются.
В сторонке материны подчинённые восторженным хором убеждали, что без директора школа точно простоит ещё неделю.
- Как назвали-то? – вздохнул Штольман, сдаваясь.
- Александром, - ответил Василий. – Санькой.
- Ну, тоже имя семейное, - подумав, согласился отец.
Ванька вначале молча удивился, а потом вспомнил, что Александром Францевичем звали батиного друга-врача, погибшего в Харбине на чуме. Выходит, что и медицина – тоже занятие, вроде как, почти семейное? Не одни вокруг сыщики да военные. И он своим выбором традиции не очень-то нарушит.
- А меня в Ленинград возьмёте? – нерешительно спросил Иван.
Очень уж всё завертелось неожиданно… и прекрасно. Не хотелось, чтобы завтра уже наступили суровые школьные будни.
Отец, должно быть, угадал его настроение.
- Ну, это как мать скажет. Школа началась, она теперь тебе начальство, - начал он не очень уверенно. Потом вдруг прервал себя и с неожиданной лихостью произнёс. - А поехали! Племянники – они, как и внуки, тоже не всякий день рождаются.
Ещё в начале лета Ванька радостно взвизгнул бы и взвился под потолок. Теперь же ответил сдержанным кивком. И с удовлетворением почувствовал, что получилось очень по-штольмановски.
И всё же замечательно, что впереди у него будет ещё кусочек этой счастливой летней дороги. А дальше – такая огромная и невероятная, прекрасная и сложная - целая жизнь!
КОНЕЦ
Содержание
Скачать fb2 (Облако Mail.ru) Скачать fb2 (Облако Google)
[player][{n:"С чего начинается Родина?",u:"https://forumstatic.ru/files/0012/57/91/90413.mp3",c:""}][/player]


 -->
-->





 Вы это уловили уже давно.
Вы это уловили уже давно.



