
(«Дело о партитуре или прятки с гением. №6701» упоминалось в романе «Почва и судьба» в Главе 7.«Чудное мгновенье»).
***
В канун Рождества на службе дали выходной, и Яков блаженно мечтал о ленивой утренней неге в день праздника. Но ранним утром он проснулся от криков и беспорядочного топота на лестнице. Одним рывком он выпрыгнул из постели, накинул на исподнее шинель, сунул босые ноги в башмаки и выглянул в вестибюль.
По подъезду где-то в нижних этажах бегали люди. Пока он соображал, что происходит - уж не пожар ли, к нему на четвертый, шумно дыша, поднялся нарядный ливрейный швейцар и надрывным голосом возопил:
- Ваше благородие! Яков… Платонович! Вы ведь из полиции будете – помогите!
- Что случилось? – помаргивая и морщась со сна, спросил Яков.
- Скандал, какой скандал, батюшка! У Мусоргских в 10-й квартире кража. Нашего брата клянут и хают, все бегают и мельтешат, а разобрать ничего нельзя. За хозяином послали! Будет нам головомойка… - схватился он за блестящий козырек фуражки и свернул ее набок растерянным жестом.
- А что же украли, Лука Савельич, деньги?
- Дык бумаги какие-то, кормилец мой, великой важности бумаги! Теперь все под суд пойдем!… - опять возопил Савельич и бросился обратно вниз.
Яков, не теряя ни секунды, помчался за ним следом.
На втором этаже, где располагались лучшие в доме - «барские» квартиры, творился хаос. Старший дворник и несколько младших сновали по этажу и заглядывали в дровяные ящики, из соседских дверей выглядывали растрепанные утренние жильцы. У квартиры № 10 собралась небольшая толпа: стоял и слесарь с инструментами в десятке карманов, и прачки с корзинами, и даже водовоз.
Крепенький молодой господин с ломким от горя широким лицом, с неприбранной бородкой и баками, затянутый в импозантный халат, стоял в проеме 10-й квартиры и отчаянно жестикулировал красивыми холеными руками:
- Как можно такое сотворить, pardonnez-moi? Труд двух лет! Я почти что закончил мою «Саламбо». И списков нет! О, Боже… И там совсем свежие записки по Годунову! Это, passez-moi ce mot*, сущая мерзость. Ооо…
*------------ извините за выражение, фр.
Мужчина постарше, стройный, строгий, с щегольскими усиками и в накинутом на плечи гвардейском кителе, удерживал его за руки и спокойным голосом увещевал:
- Модинька, ты напугал Темиру и детей! Ради всего святого, успокойся!
- Что ты говоришь, Кито… Темира, дорогая, я не могу успокоиться! – продолжал сокрушаться Модинька мягким надтреснутым баритоном,- это же форменный разбой… Я сойду с ума! - и согнулся пополам в надсадном тяжком кашле.
- Его надо увести, Темируша… - приглушенно сказал военный темноволосой кудрявой женщине и та, сняв с плеч шаль, укутала кричавшего и увела его, как дитя, в квартиру.
Яков никак не мог пробиться через необъятные, затянутые в зипуны, спины челяди, заполонившей мраморную лестницу и вестибюль. Не зная, как обозначить себя, одной рукой придерживая распахнутую шинель, другой – пробивая путь, он твердил: «разойдитесь. Разойдитесь». Народные спины не поддавались. Прачки увлеченно вытягивали шеи и охали, дюжий водовоз с сброшенными рядом баклагами молчаливой скалой загромождал коридор.
- Я из полиции, пропустите! – вконец рассердившись, выпалил Яков. И все тут же, как по волшебству, расступились.
- Штольман, Яков Платонович, помощник участкового пристава. - представился он военному под недоверчивым - сверху вниз - взглядом. Офицер оценил непринужденный наряд Штольмана, немного помедлил и, щелкнув каблуками, представился:
- Филарет Петрович Мусоргский, штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка. Прошу в дом.
Его провели темной холодной передней по мозаичному полу, через широкий ореховый вестибюль, где две испуганные горничные застыли с метелками над резным столиком. Они взнялись было принять его шинель, но он не дался! Не разгуливать же ему в одном белье на людях. И как это он не подумал!…
Они с капитаном прошли в просторную залу с богатой лепкой и паркетом под толстым персидским ковром. Комната выглядела уютно и пахла Рождеством - подле камина красовалась нарядная, высокая ель.
Резная, полная веселенького фарфора, мебель вдоль бледно-зеленых стен и множество изящных кресел продуманно заполняли пространство, как конфеты коробку. В одном из кресел в обморочном состоянии полулежал давешний господин. Взволнованная женщина с чуднЫм именем Темира хлопотала вокруг него:
- Прошу, Модик, дорогой, выпей капель. Станет лучше!
- Вот, Темируша, Модик, познакомьтесь. – торжественно произнес капитан, - это полицейский, Яков… - он вопросительно обернулся на гостя.
- Штольман.
- Штольман! Он поможет. Яков, это моя жена Темира, Татьяна Павловна. И мой брат, Модест Петрович Мусоргский, композитор.
- Здравствуйте. – сказал отчаянно стесняющийся Яков и застегнул шинель на пару пуговиц.
Татьяна Павловна обратила к ним совершенно расстроенное лицо, смерила Якова удивленным взглядом и развела руками:
- Кито, дорогой. Но зачем нам полиция? Это стыдно! – в ее голосе послышались слезы.
Красивый, статный и слегка манерный гвардеец вмиг потерял перед женой весь свой блеск и как-то даже уменьшился. Он стал похож на большого породистого пса, который хочет, но не умеет помочь, и мягким просительным тоном проговорил:
- Но… Темируша… А вдруг и правда… Украли? По рассеянности или с умыслом… Надо бы разобраться.
Из глубины дома донесся надрывный детский плач. Красивые брови Татьяны Павловны гневно изогнулись, она посмотрела на мужа долгим и - внезапно - прощающим и любящим взглядом. Поправила жемчужную брошь под горлом и вздохнула:
- Ах, делайте, что хотите! Я пойду успокою детей. Извините меня, молодой человек, мы не привыкли…
И с видом герцогини, прошуршав светлыми складками домашнего платья, вышла из гостиной. Муж проводил ее легким поклоном. Яков – тоже.
Когда в комнате остались одни мужчины, оторопь Якова мгновенно испарилась. Он снова почувствовал азарт, выгнавший его из постели.
- Прошу простить меня за вторжение… Я имел смелость предложить свои услуги Вашему брату. – решительно обратился он к бледному Модесту Петровичу, все еще лежавшему в кресле.
Модест Петрович немного порозовел, с неожиданным дружелюбием потянулся и подал Якову руку:
- Я очень признателен, молодой человек! Спасибо, что откликнулись на мое горе.
- Что у вас пропало, Модест Петрович? Что-то очень ценное?
- Именно – ценное. Пропала моя красавица, моя кровиночка, моя «Саламбо»! Понимаете. Как сквозь землю провалилась. – впиваясь горестными, чуть навыкате, глазами в лицо Якова, горячо заторопился Модест Петрович. - Я вчера вернулся от Людмилы Ивановны очень поздно. Были все наши. Римлянин хвастался своим «Садко», говорил: «опомнись и держись симфонизма Ференца»! А я ему: «шутишь?». Цезарь дразнился «Ратклифом», в котором он развивает итальянцев и только, а как же наше? Даже Даргомыжский посмеивался. И все твердили: когда ж ты свое чудище покажешь? Задели меня за живое! Весь вечер играли Глинку, и мне пришла в голову пара свежих мыслей. Думаю, внесу и ужо покажу им. Хватился с утра – а ее нет!
Выслушав эту страстную абракадабру, Яков застыл, как бывало на часах в кадетском, и в отчаянье поднял глаза к капитану.
- Эм… мой брат хочет сказать, что сегодня утром с собственном кабинете не смог найти партитуру своей оперы «Саламбо», над которой работал два года. Вот так…
Яков, изрядно вспотевший в своей нелепой шинели, опять воззрился на композитора:
- Вы хорошо искали? Кабинет осмотрели?
- Ах, Боже мой, что он говорит, Кито? Что он говорит! – вскричал Модест Петрович и закрыл лицо руками.
- Видите ли, в кабинет Модеста никто не входит без его приглашения. Это его священное место и…
- Понял, - мгновенно сообразил Яков, - прислугу уже опрашивали?
- Да, н-нет… не успели еще… - растерянно пробормотал штабс-капитан.
- Я сам опрошу. Пока городовых вызывать не будем, чтобы не нагнетать панику в доме и среди соседей. Мне нужен список всех, кто входил в квартиру за последние… Когда Вы видели партитуру в последний раз?
- …На неделе, я работал с ней… кажется, в четверг. Точно! Еще сестры Пургольд с племянниками приходили меня навестить. Пробыли с час, может, два - мы пили чай в гостиной.
Яков сопрел в своей шинели, но стойко терпел, лишь стирал ладонью пот со лба. Двое мужчин, впечатленных его деловитостью, теперь глядели на него с неподдельным уважением. Он приободрился. Вот бы самостоятельно раскрыть такое вот «домашнее» дело и похвастаться перед всеми в отделе!
- За работу! Если позволите, я сам осмотрю кабинет. – предложил он композитору.
Модест Петрович, услыхав, что, наконец, предпринимаются какие-то действия, возбужденно вскочил и направился из залы:
- Следуйте за мной, юноша!
Он провел его через анфиладу внутренних комнат и завел в тесный, заваленный нотами, рулонами и книгами, кабинетик. Всю торцовую стену занимал великолепный лаковый инструмент, пахнущий свежим скипидаром.
- Извольте, вот моя пещера, - широким жестом пригласил композитор. Его щеки раскраснелись, и он уже не выглядел умирающим. – Искать нужно подшивку серых листов с метками «Саламбо».
Яков сноровисто, как учил Иван Дмитрич, бросился сновать по углам, пыхтя и потея невыносимо.
- Яков, да сбросьте Вы этот малахай – здесь нет впечатлительных барышень.
Штольман благодарно разоблачился до белой исподней рубахи и кальсон, превратившись в сельского пастушка, справлявшего раннюю зорьку. Вдвоем они облазили кабинет, обследовали этажерки и ящики стола – нужных нот не было.
Потом он попросил позвать прислугу: горничных, кухарку, няню - и опросил их со всей строгостью. Женщины насупились, но отвечали старательно - никто не заходил в кабинет, «это запрещено». Он верил им – по всему видно, в доме служат давно и на совесть. Эта версия не проходит…
Старшая горничная по его просьбе вывела на странице из домовой книги имена тех, кто из приходящей прислуги был в доме в последние дни:
Дворникъ Михайла поставил дрова.
Молошница Саввишна поставила корзину товару.
Была прачка Устинья.
У Модеста Петровича был настройщик.
Был дворникъ Пантелей, чистил камины.
Выяснилось, что все приходящие – из штата доходного дома. Это очень удобно: не нужно бегать в конторы. Он вышел в подъезд и за час всех опросил. Никто из приходящих не заходил дальше передней. А Пантелей чистил камин при хозяине, когда тот работал за столом. Значит, и эта версия отпадает… Так, ну кто-то же взял эти ноты?
Яков вернулся в гостиную, и спросил у хозяев: кто был из гостей?
Темира, вновь присоединившаяся к братьям, грустно произнесла:
- Понимаете, Модик сильно болеет, у него грипп был две недели. А потом кашель… Друзья, от которых он был оторван болезнью, приходили его навестить.
- Расскажите, кто приходил? И надолго ли?
- Цезарь Кюи был… - сказал Модик, - и Римлянин, эээ… Римский-Корсаков заходил. Да, и сестры Пургольд были с племянниками, как раз в тот день…
Славные девушки, подают большие надежды… Позвольте, это не имеет смысла – они мои друзья! Они не могли взять ноты!
- Прошу Вас, не волнуйтесь, таков порядок. Итак, вы пили чай?
- Да, с час или два… - вздохнул Модест Петрович.
- А где были дети?! – с внезапной интуицией спросил Яков…
- Они… бегали по дому, кажется, играли в прятки… - удивленно ответил композитор. – Вы думаете…
Вызвали няню.
- Я позволила им поиграть в дальней комнате, пока я гуляла с нашими детьми в парке. – отвечала почтенная пожилая нянечка. – Велела им из комнаты никуда не выходить.
- Покажите эту комнату! – приказал Яков.
Все взволнованной толпой прошли в непарадную половину. В полутемной сырой комнатке с обилием книг и оттоманок – то ли в библиотеке, а то ли курительной, - все сгрудились у входа, а Яков принялся методично обшаривать закоулки и заглядывать под мебель. Вдруг в простенке меж шкафами он увидел кусок отвалившихся от стены обоев, который висел пыльным длинным языком. Машинально, только благодаря правилу, которому его научил Путилин: «ничего скучного не пропускать», он полез рукой за обрыв и… вытащил связку нотных листов…
- Аааа! - вскричал Модест Петрович и бросился к нему. – Это она! Моя «Саламбо»! Надо проверить – все ли на месте!
Домочадцы сгрудились вокруг и принялись рассматривать находку. На каждой странице поверх ровного стана черных нот и закорючек плясали зеленые человечки и красные каракули, вокруг заглавной надписи «Саламбо» летали голубенькие птички и распускались огромные цветы. Но листы не были порваны и оставались подшиты.
Облегчение охватило семейство. Со счастливыми глазами, полными слез, Модест Петрович бросился обнимать Якова, почти не в силах говорить:
- Слава Богу, кажется, все цело! О, Яков… Вы просто спасли мой рассудок… Но как она сюда попала?
- Дети, пока бегали сами по себе, видно, стащили ее со стола кабинета, - немного смущенный общим восторгом, произнес Яков, - разрисовали, а потом спрятали, чтобы взрослые не отругали.
- Но как Вы догадались, где искать? Это же чудо! – в унисон спросили штабс-капитан и восхищенная Темира.
- Я просто отрабатывал версии по протоколу, как меня научили. Здесь нет ничего необычного, только циркуляры. – ответил Яков и засмеялся.
Он еще раз, на всякий случай провел рукой по ободранной стене – обои с треском оторвались и опали на пол. А под ними с неожиданностью наскальной находки обнаружился столбик витиеватых слов, весь в росчерках и помарках.
Как сладостно!… но, боги, как опасно
Тебе внимать, твой видеть милый взор!… - прочел Яков сбивчиво.
- Что это? – повернулся он к Мусоргским.
Модест Петрович приблизил глаза к стене:
Забуду ли улыбку, взор прекрасный,
И огненный, волшебный разговор!…
- Какие-то стихи… хмм, и подпись… <декабрь 1818> А. С… – изучал надписи композитор.
- Дорогие, это же Пушкин! – воскликнул он и воззрился на всех пораженным взглядом.
- Какой Пушкин? – удивилась Темира.
- Ты уверен? – с сомнением произнес старший брат.
- Уверен совершенно! Это наш гений чистой красоты. Квартиру, в которой мы живем, когда-то занимал его друг Жуковский. Здесь собирался салон - весь цвет отечественной словесности: Карамзин, Пушкин, Крылов, лицеисты. Видно, арап напроказил, как обычно, - взволнованно улыбнулся он.
- Модик, откуда тебе это известно? – чуть надменно спросила Темира.
- Так управляющий старенький мне рассказал, когда я к вам только переехал, дорогая, - расцвел Модест Петрович. – Он слышал, как я на стихи Алексан Сергеича романс пел. Ну вот и…
Волшебница, зачем тебя я видел!
Узнав тебя, блаженство я познал —
И счастие моё возненавидел. - перебив его, глубоким контральто нараспев прочла Темира. И вздохнула.
- И счастие моё возненавидел… – с грустью повторил композитор. - Мда, любовь и смерть всегда ходят рядом.
- Вот это находка, - обратился Филарет Петрович к Якову, - Вы всего два часа в квартире, юноша, и уже такое! Мало того, что Модика спасли, еще и автограф гения русской словесности обнаружили…
- Поиграли… в прятки с гением. – подытожил общую радостную растерянность Модест Петрович.
Они еще раз, спотыкаясь, прочли эти стихи, и вышли из странной комнаты.
- Любовь и смерть всегда ходят рядом, – пробормотал Модест Петрович и прикрыл за собой дверь.
***
В ореховом вестибюле все еще растроганный Модест, комкая у кружевной манишки листы драгоценной партитуры, горячо приглашал Якова на семейный праздник Рождества:
- Непременно приходите! У нас будут гости, мои товарищи композиторы, и прелестные певицы! У нас всегда бывает весело, Вы не пожалеете.
Польщенный Яков целый час собирался у себя в комнатушке, выбирая между мундиром чижика-пыжика, из которого он немного вырос, и поношенным сюртуком с единственной его шелковой блузой… Он выбрал сюртук.
К семи часам он спустился на второй этаж и позвонил в квартиру № 10.
- Ах, Яков, дорогой наш, проходите, проходите! – сказала благоухающая нежными духами, вся розово-лиловая Темира, пропуская его в переднюю.
- Это наш добрый гений, Людмила Ивановна Шестакова. – с любовью глядя на сухонькую, словно высветленную, пожилую даму с наколкой в серебристых волосах, обратился Модест Петрович к Якову.
- Так это Вы тот незаурядный молодой человек, что пришел на помощь нашему Модесту? – подавая маленькую дрожащую руку в тонкой перчатке, улыбнулась Людмила Ивановна. – Очень рада Вас встретить…
- Яков Штольман. – отрекомендовался Яков, прищелкнув каблуками и лихо отдав честь на кадетский манер. - Младший помощник участкового пристава сыскного отделения под начальством Ивана Дмитриевича Путилина.
- Ооо! – рассмеялась старушка. – Вы под водительством такого славного человека? Вас ждет замечательное будущее, юноша, это несомненно.
Яков зарделся и спрятал удовольствие от похвалы, занявшись созерцанием ковра.
- Людмила Ивановна нас холит и лелеет, - улыбнулся Модест Петрович. – Мы собираемся у нее по четвергам: слушаем Глинку, спорим… Ах, дорогая, что же мы стоим, проходите, - и он усадил старушку в кресла.
Изящная гостиная, которую Яков уже видел днем, вечером стала наряднее: под потолком натянули гирлянды флажков и снежинок. На елке сияли витые свечи: они облизывали язычками игрушечное стекло, и в воздухе носился запах нагретого леса. Мягкие блики горели в темных заводях сводчатых окон, сияющий уют обволакивал комнату разбуженным праздником и тихо засыпал в приспущенных гардинах.
Штольман присел на краешек полосатого кресла и тут же потонул в его вкрадчивой мякоти. Рядом пылал и рделся камин, и Яков разомлел, глаза немного слипались. Запах ароматной выпечки дразнил ноздри... Ему было неловко и чуточку застенчиво – он никогда еще не посещал таких хороших домов…
В гостиную степенной походкой вошел темноволосый господин с пышными баками и умным взглядом, сверкающим сквозь очки, - об руку с хорошенькой оживленной девушкой. Ее нестрогое, пестрящее цветами, шелковое платье и легкомысленный аромат духов разбил томную негу петербургского нагретого уюта. Яков встрепенулся.
Девушка прижалась щекой к плечу, мгновенно оглядела гостей и открыто улыбнулась всем сразу, отчего на ее щеках заиграли лукавые ямочки. Штольману как-то сразу стало весело и непринужденно.
- Это Цезарь Кюи со спутницей, - пояснил Филарет Петрович и представил им Якова.
– Моя двоюродная кузина Адель Кюи, - ответствовал Цезарь, церемонно склонившись к ручке девушки, - недавно приехала из Франции.
Темира рассаживала гостей, ее бравый муж распоряжался напитками, гости тормошили Якова и задавали вопросы…
Через полчаса, незаметно, в эту говорливую гостиную неслышным золотистым облаком - словно пролилась - девушка удивительной, тонкой красоты. Яков обернулся: чистый греческий профиль, золотые волосы уложены как у гимназистки, но она, несомненно, была взрослее… За нею вошла темноволосая спутница постарше с двумя детьми, одетыми принцем и принцессой. На шаг позади четким шагом проследовал статный мужчина - по виду офицер, в бабочке на белоснежной рубашке, смокинге и пенсне.
- А вот и они, наши птички певчие! – подступили к ним разом все Мусоргские. И подозвали Якова.
- Позвольте представить вам нашего дорого гостя, Якова Штольмана, принесшего избавление мученику Эвтерпы. – торжественно провозгласил Модест Петрович.
Прекрасная незнакомка оглаживала перистый белоснежный веер, ласково смотрела на Якова и улыбалась. Он же покраснел, как мак, и не знал, что сказать.
- Яков, это наши ангелы, Наденька и Александра Пургольд. С теми самыми проказниками, спрятавшими мою партитуру! – композитор погрозил пальцем прячущимся за юбкой Александры детям. - И жених Наденьки, Николай Андреевич Римский-Корсаков, попросту Корсинька, морской офицер и сочинитель, как и я!
Все премило раскланялись, а Яков был так смущен, что проглотил язык. Так полвечера он и просидел, спрятавшись на диванчике под фикусами, сдерживая волнение и не сводя глаз с золотистой Наденьки. Впрочем, она на всех мужчин производила чарующее впечатление…
Николай Андреевич слегка ревновал ее к общему вниманию и без устали целовал руки невесты. Она смеялась. А потом запела… И сестра ее пела, и они вдвоем… От грудных, волнующих слаженных звуков Якова унесло в какие-то таинственные, невозможные, трудно называемые дали…
Потом раздавали хрустящие серебряной бумагой подарки. Яков качался на волнах общего веселья, и ему было горячо и непривычно радостно…
Вечер вообще проходил оживленно. Когда все подкрепились в столовой праздничным ужином и изрядным количеством вина, и опять перешли в гостиную, взялись музицировать. Модеста Петровича Яков не узнавал. Тот сделался душою общества, импровизировал на фортепиано, пел прочувствованным баритоном, шутил и изображал сценки из народной жизни:
- Ох, баушка, ох, родная раскрасавушка, обернись!
- Востроносая, серебреная, пучеглазая, поцелуй!
Темира и Филарет Петрович подпевали, стоя за спиной музыканта. Гости восклицали и дурачились:
- Ворота тесовы растворилися, на конях, на санях гости въехали!
К Якову, в его дальний угол, подсела Адель и, лукаво играя темными маслинами глаз, засЫпала его расспросами: кто он, откуда, чем живет. С нею Яков почувствовал себя легко и непринужденно, и болтал обо всем: о новой службе, о погонях, стрельбе…
Музыка и песни наливались и опадали каскадами, снова и снова… Вот уже и голос остался один – проникновенный, мягкий, глубокий… Свечи трещали и гасли по одной, пуская тонкие дымки… Голова шла кругом… Вот, кажется, и гости начали расходиться…
Через час он крепко спал, уперев голову в спинку дивана. Сквозь сон до него доносились нежные переливы фортепиано, они ласкали и уговаривали…
Издалека засмеялось дитя:
- Смотрите, а дядя спит!
Кто-то негромко шикнул, и в сонную, кружащуюся, волнующую темноту Якова донесся глубокий, немного капризный голос Темиры:
- Тише, дети… Не разбудите!
- Мальчик устал, - прошептала она и тихонько накрыла Якова щекотной, теплой шалью.
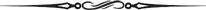
Следующая глава Содержание


 -->
-->



















