| Фэндом: Анна детективъ Описание: Трудно заменить Штольмана, если ты не Штольман. а всего лишь Коробейников. Как взвалить на себя ответственность и остаться при этом собой? Как найти в жизни свой путь, смирившись с тем, что ученичество закончено? |
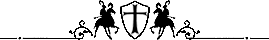
Глава 1. Служба

Эту банду залётных сдал Коробейникову по старой памяти Штольмановский осведомитель Ерошка. Был Ерошка неудачливым вором, не единожды битым за чистку чужих карманов и наконец попавшимся в цепкие лапы Затонского сыска. И лететь бы ясну соколу в «палестины забугорные», да предстояло его оформить по всем правилам, чем Антон и занимался под истошные вопли задержанного:
- Барин, отпусти! Как бог свят, не буду больше!
Штольман, вышедший из кабинета, довольно долго созерцал эту картину, хладнокровно не реагируя на Ерошкины причитания. Заметив внимание неизвестного господина (в те поры Яков Платоныч только прибыл в город, и его не знала ещё каждая затонская собака), Ерошка на мгновение смолк, а потом умоляюще обратился уже к нему:
- Отпустите, а?
Штольман помедлил, потом сказал как обычно негромко:
- Отпущу, а ты, братец, опять оскоромишься?
Ерошка закрестился истово, отчаянно мотая головой. Каким-то чутьём, располагавшимся, видать, в неоднократно битой заднице, он ощутил, что происходит что-то невозможное и важное, и что орать сейчас – только делу вредить.
- Пойдём, поговорим, - сыщик кивнул в сторону кабинета.
С того и началось чудо ерошкиного преображения. По карманам шастать он перестал, устроился грузчиком на мучных складах Крымова, даже в церкву по праздникам стал ходить. Яков Платоныч был мастер нагнать жути не подымая голоса и не угрожая кулаком. Однако ж действовало! То, чего за пять лет не смогли добиться мастера «старой школы», с Ерошкой с легкой руки Штольмана произошло светло и стремительно.
Одна только печаль была у Ерошки. Видать, в том состояло главное условие его внезапного спасения. Был он парень тёртый, со всей Затонской шантрапой обстоятельно знакомый. Штольману же, как человеку новому, с сей клиентурой только предстояло обзнакомиться. В чём и обязан был помогать ему Ерошка по мере того, как у сыщика возникала в том необходимость. Не сказать, чтобы ему это страсть, как нравилось, но долг платежом красен, и долг свой Ерофей отрабатывал сполна. Гибель Штольмана его от этого долга избавила, однако ж, сегодня он выловил Антона за рукав на Ярмарочной и зашептал прямо в ухо:
- Вашебродь, московские тут у нас. Озоруют - страсть, как бы беды не случилось! Вчерась Груню порезали. Отходит Груня-то.
Антон смекнул мгновенно. Затонские воры к «каплюжникам» без нужды не обратились бы. А Груня Матвеевна был вором не из последних. По метрике Груня значился Григорием Матвеевым. Грабителем он был самым лихим, несмотря на молодость и ангельское личико. Любимым Груниным трюком было прикинуться барышней и заманить неудачливого ухажёра в тёмный уголок. Где он мгновенно преображался в парня – безусого, злого и отчаянного. И обескураженного кавалера обчищал, не прибегая к помощи дюжих подельников.
Стало быть, Груню порезали?
- Где они? Чем промышляют? – коротко спросил Антон.
- Вашебродь!.. – укоризненно прошипел Ерошка. – Не прилюдно же! Я вам по совести помогаю, а вы же меня позорите.
Штольман в этом случае усмехнулся бы и напомнил, что не от великой совести Ерофей Фаддеич помогать полиции взялся, а со страху. И надавил бы взглядом: «Говори!» Взгляда такого Коробейников ещё не выработал, а потому просто буркнул:
- Иди в трактир. Я там буду.
Всё равно время было обеденное.
В трактире половой склонился услужливо, обмахнув стол не первой свежести салфеткой:
- Антон Андреич, чего изволите-с? Вам как всегда?
Антон только покачал головой. «Как всегда» нынче не годилось, предстояло ещё работать. Заказал бараний бок с кашей и чаю с пирогом. В деньгах он теперь недостачи не знал, Трегубов заботился о подчинённом, подкидывая премии по случаю. Жалованье же прибавили ещё стараниями Штольмана.
Антон и сам не заметил, как начал проводить свободное время в трактире в обществе полуштофа «беленькой». Когда такое случилось в первый раз, он по недомыслию весёлыми ногами отправился на службу, полагая, что удастся скрыть происшедшее. Но зоркий начальник неладное заподозрил сразу, Коробейникова больше не слушал, а смотрел на него, потом же с силой потянул своим породистым носом, склонившись к самому лицу. И в глазах заплясали черти. В тот раз он отправил Антона отсыпаться, когда же это повторилось вдругорядь, сделал жёсткое внушение и пригрозил уволить. Антон страхом наказания проникся и больше в бытность Штольмана начальником с бутылкой не беседовал.
Не то чтобы сам Яков Платоныч был по этой части свят. В ящике стола у него постоянно проживала бутылка коньяку, к которой Штольман, случалось, прикладывался. Но пьяным своего начальника Антон видел пожалуй что только раз: возле трактира после убийства инженера Буссе; в тот день, когда под подозрение едва не попала Анна Викторовна. Шел затонский следователь походкой косвенной, подняв воротник пальто: то ли от лихости, то ли чтоб не узнали. Да кто ж его не знал? Трезвого рассудка он, однако же, и в этом состоянии не утерял, небрежно объяснив Антону, кто является истинным убийцей. Тех же, кто стоял за убийством, к ответу привлечь он всё равно не мог, роман вот предложил написать.
Позже Антон узнал, что в тот день Анна Виктровна дала Штольману пощёчину. Прямо на улице, люди видели. Про себя помощник следователя сразу решил, что он им не судья. Город, видимо, решил так же, потому что судачить об том прекратили подозрительно быстро. На все выходки следователя и адвокатской дочери-духовидицы город реагировал с философским спокойствием: «Милые бранятся – только тешатся!»
Но по всему выходило, что к бутылке Штольман тянулся всё больше от душевных переживаний. Которые ему Анна Викторовна доставляла в изрядном количестве. Было, правда, еще дело Ферзя, когда сам следователь едва не был обвинён в убийстве, ибо в шахматы с арестованным играл, а как домой ушёл, под коньячком-с, не помнил. Но то было тоже от нервов, в этом Антон был полностью уверен. Случались у Штольмана плохие дни, точнее, ночи, когда он уснуть не мог, всё чего-то маялся, не уходя со службы домой. В окна Коробейникова был виден свет, который горел в кабинете порой до утра. И если поначалу Антон ещё пытался уговорить начальника спать, то получив однажды отповедь: «Антон Андреич, вы обо мне заботиться вздумали?» - затею эту оставил. Заботиться о начальнике выходило себе дороже. Штольман этого не терпел ни от кого. Ходил такими днями усталый и злой, как аспид. И язвил напропалую.
Может, хоть сейчас Анне Викторовне с ним совладать удалось? Единственное, чего добился Антон - приучил начальника не рычать, когда его кормят. Заработавшись, следователь часто пообедать забывал, дома же съестного не держал вовсе: чего мышей разводить? И случалось, что за окном уже темно, а Яков Платоныч, отрываясь от бумаг и потирая уставшие глаза, вдруг спросит:
- Антон Андреич, у вас баранок нет? – и вид у него будет при этом виноватый.
Коробейников добился, чтобы и баранки были всегда, и круг колбасы или пирог с начинкой. Чего-нибудь сладенького – это уж для себя. Яков Платоныч был к сладкому равнодушен. Городовые ставили самовар…
Как не хватало ему теперь этих вечерних посиделок, когда сыщики анализировали очередное дело, неторопливо отхлёбывая чай и закусывая баранкой. Случалось, в такие вечера к ним на огонёк заглядывал доктор Милц. И так было тихо и душевно.
А иногда… вспоминать об этом почему-то становилось всё трудней… иногда в кабинет вихрем влетала Анна Викторовна. И всё вокруг мгновенно преображалось…
Беря Антона в ученики, Штольман сказал с усмешкой: «Безоблачного счастья я вам не обещаю». И в этом едином обманул его учитель. Полтора года под началом Якова Платоныча Коробейников вспоминал, как время безмятежное и совершенно счастливое. Хоть и страху бывало, особенно по первому времени. И язвил Штольман – куда там змею! И орал на Антона - в своей обычной манере, шёпотом. Голос возвышать сыщик не любил, ругался вполголоса, но так яростно, что любого жуть брала. Кроме разве Анны Викторовны – а уж ей всего этого вдвое от других доставалось. Но барышня Миронова держалась стойко. Потому что так орал Яков Платоныч только на тех, кого любил. Вот те раз! Выходит, что и его, Коробейникова - тоже?
Когда же сыщику случалось кричать в полный голос при задержании, выходило как-то по-мальчишески несолидно, ничуть не лучше, чем у самого Коробейникова. Да и вёл он себя – мальчишка мальчишкой. В драку и под пули лез, не думая ни о чём.
Эх, Яков Платоныч, Яков Платоныч! Может и не хотели вы этого, а жизнь своему помощнику переехали. Теперь-то вот как?
Антон поймал себя на том, что выпить хочется почти нестерпимо. Должно быть, тоже от нервов. Рявкнул мысленно на себя голосом Штольмана: «Коробейников, делом займитесь!» Дело всегда помогало. Ну, где там тот Ерошка?
За три без малого года, прошедшие с отъезда сыщика с Анной Викторовной, тоска накатывала на Антона не раз. Даже не так. Тоска не оставляла его ни на минуту, а порой накатывало такое беспросветное отчаянье, что впору было бежать на кладбище, становиться у богатого, каслинского литья креста и вопрошать:
- Как же это?
Хоть и знал, что не лежит под тем крестом тот, кого спросить об этом хотелось.
Многому научил сыщик своего помощника, единого не объяснил: как жить, если нет справедливости? Да и сам он это знал ли?
Не любил Коробейников вспоминать тот день, но в плохие минуты он сам собой вспоминался. Как увидел Штольмана в клетке, выставленного на позор всему участку. И был Яков Платоныч какой-то на себя не похожий и чужой. Смотрел остро, искоса, говорил вкрадчиво. А потом приставил Антону к подбородку его же собственный револьвер. И сказал, что всё к лучшему. В тот день его ни одна решётка не удержала бы, потому что Анна Викторовна попала в беду. К тому же был у Штольмана ещё один долг, о котором Антон узнал уже много позже, когда долг был полностью отдан. Когда Антон собственноручно сжёг бумаги, содержавшие в себе смерть для многих тысяч людей.
Тогда уже некуда было спешить, и найденный наконец Штольман был замученным и смертельно усталым. Кажется, он тоже не знал, как жить дальше. На каторгу идти за убийство князя Разумовского он не собирался, а только на него указывали улики, кем-то со всем тщанием подобранные. Сыщику оставалось только исчезнуть. Мнимая смерть спасла его доброе имя, у самого же теперь и имени-то не было. Не нравилось Антону безразличие, которое увидел он в учителе тогда. Словно всё, что следовало в жизни, он уже переделал, а теперь чего уж? Но только едва осмелился спросить: «Яков Платоныч, а что теперь?» Хоть и видел, что теперь ничего.
Когда б не Анна Викторовна…
Вот сейчас бы спросить, как быть, как жить на свете, когда ты один, а впереди – ничего. И нет правды – хоть кричи!
Ответил бы?
Бог его знает. За три года Антон не получил ни единого письма. Кто он, чтобы ему писать, в самом деле?
Ерошка появился в тот самый миг, когда сыщик уж готов был приказать подать себе лекарство от тоски. Присел за стол к Антону, сторожко оглядываясь по сторонам, хоть и располагался стол в самом дальнем углу, и сидел он ко всем возможным соглядатаям спиной, Коробейников же лицом к залу, чтобы никого не было позади – всё, как Яков Платоныч научил.
- Говори, - коротко потребовал помощник следователя.
- Шестеро их, - сиплым шёпотом поведал Ерошка. – Верховодит Рваный. Это у него губу раскроили, ножом-то в драке.
Рука доносчика коротко чиркнула поперёк подбородка.
- Где живут?
- А я не знаю, – просипел бывший вор. – Ошиваются возле складов на Амбарной. Кажен день там.
Знал Антон эти склады. Не раз и не два становились они ареной мутных дел. Опять контрабанда, небось?
- Чем занимаются?
- Да грабят по мелочи. Толковали, будто ждут какой-то товар, и с того товару у них здесь дела пойдут. Весь город под себя подмять обещали. И Зареченск тож.
- А люди, стало быть, не хотят?
- Не хотят, - подтвердил Ерошка. – Вы уж подсобите, Антон Андреич! Люди говорят, что в долгу не останутся. Вам ведь тоже эти залётные зачем? Они до мокрого дела охочие – страсть! Кровь людская для них, что водица. Груню-то…
- Подсоблю, - угрюмо кивнул помощник следователя, поднимаясь.
Однако надо готовить облаву. Спросить только у Мухина, что за Рваный. Он московский, знает поди. Не всё ж за одними мышами охотился.
Ерошка удержал Коробейникова за рукав.
- Чего тебе? – покосился Антон.
- Так это, барин… Яков Платоныч рубль дал бы.
Яков Платоныч мог дать и рубля, а мог и осадить: мол, за себя ты, голубчик, хлопочешь. В зависимости от того, насколько важными посчитал сведения, и насколько наглыми счёл требования. Раздумывая, как поступил бы учитель в данном случае, Антон пришёл к выводу, что информация, пожалуй, рубля стоила. Ерошка был осчастливлен, а Коробейников вернулся в управление.
* * *
Новый начальник сыскного отделения Мухин Аполлон Трофимович в участке отсутствовал, никому не доложившись. Такое и со Штольманом случалось, но Яков Платоныч был трудягой редкостным, так что никому и в голову не приходило спрашивать – и так понятно, что делом занят. Мухина же не трогал даже Николай Васильич, махнул на всё, зная за гостем из Москвы чью-то волосатую руку. Только с Антоном Андреичем сделался ласков, будто с родным. Полковник Трегубов, несмотря на внешнюю суровость, был человеком сердобольным. Чинопочитанием только чрезмерным страдал.
Коробейников прошёл к себе, случайно зацепив взглядом зеркало, и сжал зубы от бессильного гнева. Зеркало завелось в кабинете стараниями Мухина. Штольман, даром, что был хорош собой, на свою физиономию смотрел только по утрам, и то если успевал побриться. Мухин же мнил себя Аполлоном истинным, хоть и был плюгав, плешив, рябоват и бесцветен. Редкие жёлтые волосы он начёсывал на плешь с бриолином, бачки холил любовно, и без конца охорашивал то сюртук, то галстук. Всё это делалось по давней привычке, ибо был Аполлон Трофимович беззаветно влюблён в себя самого, а вовсе даже не в купчиху Мамонтову, за которой обстоятельно ухаживал.
Антону и прежде приходилось дело иметь с полицейскими, что полицейскими были только по названию. Изварин, заправлявший отделением до Штольмана, был следователем вовсе никаким, однако же, сумел хорошо устроиться при прокуроре, а позднее и вовсе оказался замешан в делах грязных и кровавых. Мухин же в делах замешан не был. Никогда и ни в каких. Канцелярию он вёл любовно, со знанием дела составляя отписки по любому приходящему в отделение делу, не пытаясь оное дело хоть как-то расследовать. Затонцы, прознав про это, стали обращаться к Антону уже напрямую, минуя начальника – знали, что поможет. Когда же Антон уворованное находил, душегубцев ловил и скандалы улаживал, не раз и не два слышал он у себя за спиной:
- А как же? Небось, Штольмановский выученик!
Слышать это было и больно, и приятно. Выучеником себя Коробейников совсем ещё не считал. Отлично умея находить улики и разговаривать с людьми, он всё время упускал что-то важное, что складывало кусочки мозаики в единую картину. Яков же Платонович, не выходя из кабинета, лишь задав пару вопросов, вдруг прозревал всю картину целиком, давая помощнику поручение найти недостающие детали. И ведь всегда знал, где их искать! Антон же этому так и не успел у него научиться.
Иногда Коробейников думал, каково жилось Санчо Пансе после Дон-Кихота. Вот ведь и он сам, едва начав служить, многое принимал, как должное, пока не явился ссыльный чиновник из Петербурга, живший по законам рыцарства. Не раз и не два Антону при виде начальника приходило на ум из Грибоедова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно!» И хоть неприятностями ему вечно грозили немалыми, Штольман от своего не отступался, если считал, что прав. А неправым он был нечасто. И только с Анной Викторовной.
Когда Антон впервые попробовал воспротивиться приказанию Мухина, у него захолодело внутри. Споря со Штольманом, он никогда не боялся ничего, кроме как задеть ненароком за больное. Случалось такое пару раз, и тогда невозмутимый обычно начальник взвивался, будто его в зад ужалили. Коробейников тогда не знал, куда деваться и как загладить неловкость.
Мухин же был врагом идейным, и спорить с ним предстояло всерьёз, а его власти хватило бы, чтобы отправить Антона в квартальные надзиратели. Кажется, так он и собирался сделать в самый же первый раз, но тут вмешался полицмейстер. Антон остался при прежней должности, хотя отчётливо понял, что продвижения в чинах ему не видать до конца своих дней. Так и помрёт коллежским секретарём. Хорошо, если не городовым на Камчатке.
Однако же спорить не перестал. А со временем и вовсе начал работать, начальство о своих шагах не ставя в известность. Мухина это вполне устраивало. Он занимался отчётностью, а Коробейников расследовал дела.
Следователь изволил появиться только через час, когда Антон уже успел переговорить с городовыми и спланировать операцию на складах. Преодолевая презрение, обратился к начальству с вопросом:
- Аполлон Трофимович, не знаком ли вам по Москве некий Рваный?
- Не знаю-с, - процедил Мухин, сжав тонкие, бесцветные губы. – И тебе не советую.
Это Штольман, хоть и дворянин, со всеми был ровен и уважителен, обращаясь по имени-отчеству что к девице из Заведения, что к мальчишке – четыре года из гимназии. Для Мухина такое было ниже его достоинства. Коробейникову он тыкал безапелляционно и презрительно.
- Но как же? – пробовал надавить Антон. – Говорят, вор в Белокаменной известный.
- Я с ворами дружбу не вожу-с! – отчеканил Аполлон Затонский.
А ещё следователь! Начальник сыскного отдела, в бога, душу, мать!
- Да ну его, Антон Андреич! – сиповато прошептал за спиной Ульяшин. – Сами возьмём. В первый раз, что ли?
И впрямь, было не в первый раз. Хоть сердце уже не холонуло, как четыре года назад, когда мчался вместе с городовыми, размахивая револьвером. Штольман в те поры посмеивался над ним, не гоняясь без толку, но становясь всегда там, куда преследуемый выскакивал непременно. И тогда начинался самый главный для Антона страх, когда любимый начальник заводил с душегубом беседу. Стрелять насмерть Яков Платоныч не любил, хоть и мог сразить наповал при необходимости, но предпочитал обходиться без лишней крови.
В последние три года Коробейников тоже начал относиться к задержаниям философски. Ну, убьют так и убьют! Терять всё равно нечего. Жил он один после смерти маменьки, братьев-сестёр не имел, барышни не завёл. А после отъезда Якова Платоныча и Анны Викторовны вдруг обнаружил, что и друзей-то у него нет. Так, приятели по гимназии. Поговорить по душам не о чем. Раньше казалось, что есть, а теперь вон оно как обернулось. Хоть и любили Антона однокашники за доброе сердце, за незлобивый и ровный нрав, даром, что был первым в гимназии учеником и любимцем учителей, а такое уж вовсе редко прощают. Сам же он вдруг вообразил своими друзьями сурового начальника и красивую адвокатскую дочку. Вспомнилось вдруг, как обнимал он их обоих, чудесно спасённых в сатанинском логове, и как в груди было тепло!
Друзья - придумается же такое! Кто он им? За три года – ни весточки…
Меж тем пролётка остановилась на пустыре за церквой. Не годилось врываться на Амбарную всем отделением под бубенцы. Вышли, двинулись цепью, сообщаясь знаками. Ульяшин был рядом, надёжно прикрывая, как он сам когда-то Якова Платоныча.
У складов подозрительно суетились пятеро, таская длинные ящики.
- Ох, ты ж! – прошептал Михаил Иваныч. – Никак ружья?
И впрямь, ящики более всего походили на те, в каких перевозят оружие. И партия была немалая. А Антон тут же обозвал себя мысленно дураком и разиней. И о чём он только думал, отправившись брать эту шайку без проверки, без наблюдения? А ну, как упустили бы? Сыщик, мать его так!
Однако ж отступать было поздно, и он вышел вперёд, едва завидев главаря с лицом, рассечённым шрамом через губы:
- Сдавайтесь, Рваный! Вы окружены!
Как водится, бандиты ему не поверили. Никогда они в это не верят. Наладились прорываться, хорошо – без стрельбы. И тут Антону губу раскровянили, резанули ножом предплечье, а потом и вовсе прилетело по голове – должно, от кого-то из своих. Коробейников потерял сознание, а пришёл в себя от того, как лили воду на лицо и хлопали по щекам. И голос Ульяшина причитал над ухом:
- Живой? Очнитесь, Антон Андреич!
Антон очнулся и обнаружил, что супостатов благополучно повязали. И снова обозвал себя мысленно дураком. Ну, куда он полез? Хоть и был он теперь не в пример крепче, чем в те поры, когда наладился проситься в ученики к кулачному мастеру Фидару. Из тогдашней затеи ничего не вышло, но Штольман, видя его рвение, пожал плечами:
- Так гимнастикой займитесь, Антон Андреич.
Сам он был росту хоть и не богатырского, зато жилистый и упругий, как ремень. В том деле он одолел на кулаках матёрого бойца, оказавшегося убийцей.
Разговор этот происходил в хорошую минуту, начальник был в добром расположении и продемонстрировал подчинённому, что значит гимнастика, сделав красивую и ровную стойку на руках. Коробейников не пожелал от него отстать – на чистом упрямстве. Забаву эту прервал полицмейстер, зашедший по какому-то делу и обнаруживший сыскное отделение, в полном составе стоящее на голове. Кажется, изумлён был Артюхин изрядно. Яков же Платоныч, приняв нормальное положение, невозмутимо ответствовал, что даёт Антону уроки японской гимнастики для силы ума и крепости духа. Полицмейстер поглядел с сомнением, покачал головой и вышел вон, так и не вспомнив, зачем приходил.
- И впрямь японская, Яков Платоныч? – спросил Антон.
Штольман небрежно ответил, поправляя манжет:
- Да кто его знает? Очень может быть.
Голова после удара болела. Следовало бы ехать к доктору, но Александр Францевич отбыл из города ещё по весне, а прочим Антон не слишком доверял. Перед отъездом доктор намекнул, что едет к друзьям в Париж, что получил хорошее письмо. Звал Антона к себе на чай, но не случилось – много было дел по службе. Так Коробейников и не узнал, что было в том письме. Ему же самому не написали.
Доктор Милц был полицейским почти родным. После отъезда Штольмана Антон только в обществе доктора находил некоторое душевное успокоение. Они оба были поверенными грозной тайны, от них зависела жизнь и безопасность беглецов. И хоть они никогда не говорили вслух об уехавших друзьях, это всё же сближало.
Вместо визита в больницу Коробейников поехал в отделение – оформлять задержанных и изъятое контрабандное оружие. Куда и кому его везли в таких количествах, предстояло ещё дознаться.
В участке за решёткой сидел Ребушинский, перепугавшийся его вида и заботливо осведомившийся о здоровье. Видеть его Коробейников не хотел – даже в гробу. Пусть ему черти его рассказики на спине пишут. Раскалённой кочергой. Не надо Антону его участия.
Прибежал Трегубов, заохал, узнав результаты операции. Сыскное отделение вновь покрыло себя славой под началом полицмейстера, по инициативе Санчо Пансы Затонского.
- Антон Андреич, да вы домой идите! – Николай Васильич был ласков, как отец родной. – И доктора, доктора – непременно!
Коробейников пошёл, но наутро обнаружил, что не может более оставаться в квартире. Тянуло на службу. Не одному же в комнате с книжкой лежать, попивая чай с калачом! А когда появился - страшен, как мертвец, восставший из гроба, - вновь услышал за спиной уважительное:
- Вот и Штольман-покойник, бывало, так же!..
Антон стиснул зубы от накативших воспоминаний. Полно вспоминать-то! Он – не Штольман. И никогда не сможет его заменить.
Но и не Мухин, слава богу! Служит верно и честно. Не умеет иначе. Не научен.
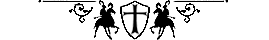
Следующая глава Содержание


 -->
-->




