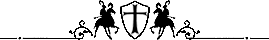
Глава 5. Интерлюдия. Ночь

Вечер закончился для Коробейникова в компании доктора Милца, приехавшего, как и было предсказано, к ужину. За ужином доктор прочёл короткую, но очень содержательную лекцию о медицинских открытиях Луи Пастера, и о том, как оные открытия скажутся на эпидемиологической обстановке в мире и общей продолжительности жизни. Кажется, Александр Францевич был счастлив очутиться в центре научной мысли Европы, и его просто распирало желание поделиться. Благо, аудитория была доброжелательная и послушно внимала просвещению. Только Яков Платоныч по обыкновению не удержался от колкости:
- Так вы статью об этом напишите, доктор. В «Затонский телеграф». Наш город должен быть на острие прогресса.
Александр Францевич посмотрел на него неодобрительно.
- И напрасно иронизируете, ЯкПлатоныч! Придёт время, когда в любом провинциальном Затонске последняя домохозяйка будет знать о пастеризации. А от Ребушинского временами бывает польза, знаете ли!
Тут Коробейников некстати вспомнил, что стараниями Ребушинского был сброшен с пьедестала непрошибаемый Аполлон Затонский. И молчаливо с доктором согласился. А ещё он вспомнил, что перед отъездом Виктор Иваныч Миронов, лукаво улыбаясь в усы, вручил ему для передачи зятю запечатанный в бумагу толстый пакет.
- Только перед обедом не отдавайте, а то ведь подавится, неровен час!
- А что это, Виктор Иваныч?
- Полное собрание Ребушинского.
- А не застрелится Яков Платоныч?
- Да не должен бы. Но если сомневаться будете, передайте для начала Петру, - сказал Миронов, улыбаясь уже в открытую.
Коробейников подумал, что самому вручить, пожалуй, милосерднее будет. Пётр Иваныч уж подгадает такой момент, чтобы вызвать переполох по всей программе.
После ужина Антона решительно увела в приёмную Александра Андревна, сообщившая ему, что всеми финансовыми делами агентства занимается она, и выдавшая Коробейникову подъёмные вперёд основного жалованья. Известие это его несказанно порадовало. Госпожа Миронова была дамой невероятно собранной и обстоятельной – полная противоположность легкомысленному своему супругу. Если уж она денежные дела ведёт, можно не сомневаться, что жалованье будет точно в срок. Антон, признаться, тихо грустил при мысли, что в этом вопросе будет зависеть от любимого начальника. Штольман и про своё-то жалованье вспоминал, когда деньги в кармане заканчивались. Зная эту особенность начальника сыскного, Николай Васильич лично следил за тем, чтобы Яков Платоныч деньги получать приходил.
Успокоенный относительно своего будущего, Коробейников прикинул, что подъёмных точно хватит на новый сюртук по парижской моде. Чтобы пуговицы не отрывались. Надо будет завтра у Петра Иваныча спросить, к какому он ходит портному. Штольмана тоже можно спросить. Единственное, в чём Яков Платоныч был сибаритом, так это в одежде. Элегантность начальника сыскного поразила воображение Коробейникова враз и навсегда – настолько, что он почувствовал свою манеру одеваться ужасающе нелепой и положил себе поменять вкусы и научиться носить сюртуки с такой же непринуждённостью.
Потом Антон поднялся на третий этаж, но к себе не пошёл. Двери доктора были открыты, и он разбирал уже свои богатства, тихонько мурлыкая от удовольствия.
- Заходите, Антон Андреич! Уж как вы порадовали меня, голубчик – слов нет! Хотите чаю?
Чай у доктора Милца, как и всё в его квартире, припахивал карболкой, но Коробейников не отказался, с тихим умилением вспоминая те времена, когда доктор оставался единственным его другом в Затонске. Смешно сказать, за полсвета, в Париже собрались все, словно родные. И все его чаем поят. У Карима чай вкуснее, конечно.
Ночью он долго не мог заснуть, взбудораженный мыслями и новыми впечатлениями. Ворочался с боку на бок, а потом и вовсе встал и подошёл к высокому окну. Ночь была ясная и лунная. Внизу неторопливо катилась Сена; слышно было, как вода тихо поплёскивает о гранитные берега. За рекой в свете луны был виден по ту сторону реки мрачный замок с островерхими башнями – как картинка в книге. И всё было будто сон, и Коробейников даже опасался проснуться. Слишком всё хорошо!
Внезапно он подумал об Анне Викторовне. Что греха таить, опасался он, когда ехал: вдруг проснётся в душе его угасшее чувство, вдруг он станет ревновать? Или Штольман взревнует, разгадав его секрет. Как быть тогда?
Но страхи и в этом оказались напрасны. Между Анной и Штольманом всё было так надёжно и нерушимо, что и помыслить было нельзя о чём-то ином. Что-то такое, зародившееся ещё той зимой, когда Антон увидел их, ещё не венчанных, уже супругами, раз и навсегда понявшими друг друга и разрешившими все свои сомнения. Анна Викторовна в чём-то была мудрее их со Штольманом обоих и не отдала ничего на волю случая. Иначе бог знает, чего они наворотили бы. Зная несомненно о чувствах Антона, она никогда не дала ему понять об этом. Он был для неё лишь другом – верным и надёжным, который – она знала – никогда не посягнёт на её чувство. Точно также она знала Штольмана своим суженым и тоже не позволила ему от предначертанного уклониться. Она сама устанавливала законы, по которым им надлежало жить.
Он знал, что Анна Викторовна навсегда останется для него идеалом, воплощением Женщины. Но теперь это не вызывало даже грусти, настолько всё было правильно. Надо было просто принять всё, как оно есть. И радоваться каждому дню, который, несомненно, принесёт ещё много нового и удивительного. Коробейников чувствовал себя так, словно выздоравливал от тяжкой болезни – так ему становилось хорошо и легко. Да это и была болезнь! Болезнь по имени «мухин». А теперь всё будет хорошо.
Анна уверена, что мадам Лепелетье жива. Значит, они с Яковом Платонычем непременно её найдут. Они всегда и всё находили, когда работали вместе. Они отыщут её живой, а дальше… Дальше Антон даже мечтать боялся.
Интересно, Яков Платоныч думает уже об этом деле?
* * *
Яков Платоныч тоже не спал, но думал, разумеется, совсем о другом.
Появление Коробейникова, привезённое им новое дело и то, как сидели они втроем в кабинете, обсуждая его, вдруг вернуло его мыслями назад – в те времена, когда появление Анны Викторовны в кабинете и такие вот посиделки были самым большим счастьем в его жизни. Об ином тогда он и мечтать не смел.
Только выдавалось такое счастье немыслимо редко. Он сам всё портил какой-нибудь колкостью, срывавшейся с языка помимо мысли – лишь бы что-то сказать, чтобы не было видно, как застывает он влюблённым истуканом при её появлении. И тогда она обижалась и уходила, а Коробейников, воспользовавшись какой-нибудь оказией, убегал вслед за ней, чтобы утешить. А он даже не ревновал, он просто злился на себя и на весь свет за то, что не может быть с ней, за то, что он такой безнадёжный идиот. За то, что даже себе самому он не мог в этих мыслях признаться, трус несчастный!
Анна тихо спала у него на плече, а он лежал без сна, прислоняясь щекой к теплой шелковистой макушке, и чувствовал себя расслабленным и спокойным. Наверное, это и называлось счастьем. Ему прежде приходилось слышать о том, что супружеское счастье скучно и однообразно – настолько, что быстро надоедает любому мужчине. Но или он был каким-то не таким мужчиной, или, что вернее, сочинивший эту глупость понятия не имел об Анне Викторовне Штольман. Его Анне. Счастье, доставшееся Якову, было каким-то бесконечным, обладающим массой оттенков и выражений. Оно не могло прискучить, а он слишком изголодался по счастью, чтобы когда-то пресытиться.
Мысль человека – странная нить, спрядённая неведомо из чего и плетущаяся, повинуясь собственным законам. Теперь ему неожиданно вспомнился Петербург: холодный, продуваемый всеми ветрами город, такой точный и правильный в расчертивших его диагоналях проспектов, такой сдержанный, прячущий за элегантными фасадами своих ансамблей всё подспудное, тёмное и грешное, также как прятал он и всё трепетное и тёплое. Город этот вошёл в его плоть и кровь, он слепил его по своему образу и подобию. Яков Штольман – петербуржский сыщик. Неумолимый, проницательный и точный. Некоторые считали, что у него есть страсти, но нет сердца. Сердце было, но оно билось где-то там, в каком-то потаённом дворе-колодце, куда и солнце заглядывает редко.
Нина Аркадьевна Нежинская была не только его страстью. Нет, страсти там было предостаточно, но он и впрямь любил её, уверенный, что не сможет полюбить сильнее. Она была тем, что ему нужно: неуловимая в своём лицедействе, она была вечный вызов, она волновала не только тело, но и ум. А душу… Но ведь он и сам тогда полагал, что у него нет души. Материализм наличия духа не признаёт.
Он и не догадывался тогда, насколько неудовлетворён. Душа истощалась без воздуха и света, а он и не знал, каким бывает свет.
Странно, в жизни строптивый и непокорный, любое командование принимавший с трудом, в любви Яков неизменно отдавал своим женщинам инициативу. Почему? С Анной понятно: он всегда боялся, что однажды она исчезнет, сочтя, что он недостоин такого счастья. А с Ниной? Неужели тоже? Вот уж не заботили его чувства Нины Аркадьевны!
Нина всегда любила командовать. Ей доставляло удовольствие воображать, будто он принадлежит ей, будто неустрашимый сыщик у неё в вечном плену. Жестко обрывая эти фантазии при свете дня, в спальне он почему-то позволял ей предаваться этой иллюзии. Должно быть, потому, что это была именно иллюзия, и ничем Нина в действительности не владела, даже собственной жизнью. Неужели он её жалел? В самом конце, уже в Затонске, он понимал, что так оно и есть. Но в Петербурге эта мысль не приходила ему в голову.
Вспомнилось, как однажды, когда разгорячившаяся Нина своими фантазиями не дала ему уснуть до утра, он шёл смертельно усталый к графине Раевской. Бурно проведённая ночь не дала удовлетворения сердцу и отдыха телу. Но предстояло работать, а Штольман никогда не уклонялся от работы, справедливо полагая, что это и есть его главное в жизни предназначение.
Александра Андревна встретила его неодобрительным взглядом. Этой женщине он никогда не дал бы понять, что думает о собственной жизни, и почему временами ему кажется, будто он тонет в грязи. Даже служба у полковника Варфоломеева не могла её запятнать. Потому что для неё это была не служба, а служение, принятое по убеждениям. Всё, что Александра Андреевна делала, согласовывалось с законами чести, и потому он уважал её безмерно.
- Вы опять не спали, милостивый государь? – строго произнесла она, глядя на него долгим взглядом.
От кого другого Яков мог бы отделаться беспечной улыбкой, которой сама графиня его научила, и сослаться на службу. Но врать Раевской было бесполезно, да и не хотелось.
Он просто промолчал.
- Смени сорочку, эта не годится, - сказала графиня, изучая своего ассистента, которому предстояло под видом племянника сопровождать её в Гатчину на какой-то приём. – Тебе сегодня нужен высокий ворот. И шёлковый платок повяжи.
Яков недовольно повёл головой и вдруг почувствовал то, что проницательный взгляд графини уловил сразу. Какой бы жилистой ни была его шея, Нина сегодня ухитрилась укусить его и там. И это было заметно.
Поморщившись в досаде, он поспешил сменить гардероб. Зная особенности его полицейского быта, в результате которых он мог явиться и рваным, и в крови, графиня держала у себя некоторое количество мужских сорочек и галстуков на все случаи жизни. И пару парадных сюртуков. Разумеется, если бы это стало известно, скандал был бы обеспечен. Но Раевская умела быть безупречной в глазах света, и эту безупречность нисколько не портил повеса-«племянник».
Когда он вышел при полном параде, замотанный элегантным галстуком по самое горло, графиня осмотрела его, как командующий проводит смотр своим полкам. Убедившись, что выглядит он безупречно, отвернулась с тихим вздохом, так и не сказав ничего. Почему-то Штольман в этот момент ощутил необходимость оправдаться. Такое настроение с ним в жизни вообще случалось нечасто.
- Это та любовь, на которую такой, как я способен, - выдавил он сквозь зубы.
Александра Андреевна резко обернулась.
- А ты уверен, что понимаешь что-то в себе?
Эта реплика его удивила. Но в тот день графиня задалась целью удивить его ещё больше, хотя никогда – ни прежде, ни впоследствии – не вмешивалась в его личную жизнь.
- Тебе нужна другая женщина.
- Другая? – он аж переспросил от неожиданности.
- Другая, - подтвердила Раевская. – Светлая, добрая – такая, как ты сам.
- Вот уж это новость! – пробурчал Штольман недовольно. Никогда он себя светочем не считал.
- Ты глупец! – графиня смотрела на него с величественным сожалением.
- И зачем я нужен светлой и доброй? – со злостью сказал он.
- Незачем! - теперь уже рассердилась графиня. – Просто она нужна тебе. Чтобы ты не погиб.
Усталость, досада и странное чувство, что всё в жизни идёт не так, да, вероятно, так уже никогда не будет, заставили Штольмана ответить резкостью:
- Я жив. И погибать пока не собираюсь. Как бы вы обо мне ни сожалели!
Он тут же раскаялся в своих словах. Но гнев всегда делал его невоздержанным. А извиняться Яков не умел.
Графиня остановилась, смерив его суровым взглядом.
- Извинись!
Он пробормотал сквозь зубы какие-то слова.
- Дай мне руку. Мы опаздываем.
Она оперлась на его руку, спокойная и величественная, как всегда, а он покорно стал исполнять роль младшего родственника-протеже, лишь головой дёрнул в досаде: высокий воротник неприятно натирал укус на шее.
Он едва не погиб два месяца спустя. А потом, залечив рану на теле, но не в душе, был уверен, что едет в Затонск умирать. Какая разница где? Пуля для него везде найдётся. Затонск – так Затонск. Он даже почти не заметил, не придал значения, когда его чуть не сбила с ног смешная девочка на велосипеде, в шляпке, забавно съезжающей на один глаз. «Барышня на колёсиках»…
Странно, в тот день встряхнула его, заставив вновь с интересом взглянуть на собственную жизнь, вовсе не эта встреча, а громогласный парнишка с грозными усами, ведущий допрос в участке. Штольман одним лишь вопросом подтолкнул его мысль в нужном направлении, и паренёк вдруг ухватился за эту мысль с радостной готовностью. Даже в Петербурге такие сообразительные полицейские попадались досадно редко, а уж в таком-то возрасте… Потому Яков запросил себе у полицмейстера этот алмаз, уверенный, что успеет огранить его в бриллиант прежде, чем в его жизни будет поставлена точка. Просто для пользы дела, которому служил. Он и не знал тогда, насколько привяжется к своему помощнику. Именно Коробейников примирил его со службой в Затонске. Барышня Миронова была уже после…
Анна сонно вздохнула у него на плече, погладила по щеке:
- Яша, ты не спишь.
- Не спится, - сказал он, целуя её теплую макушку.
Жена снова вздохнула, меняя позу и в полусне притягивая его к себе. Барышне Мироновой всегда было безразлично, что он думает о себе и о своей жизни. Она присвоила его себе сразу с бесцеремонной непосредственностью котёнка, взобравшегося на колени: «Мой человек! Хочу – играть буду, хочу – буду когтить лапкой. Или лизну – опять же, если захочу!»
И Коробейников все время норовил подобраться поближе, чтобы он мог возле него погреться. И не обижался, когда Штольман его отгонял. Просто заботился потихоньку издали.
Никогда бы не смог обидеть детей или котят!
Да нет, что там! Обижал постоянно. А они ему всё прощали, неведомо за какие заслуги. Сегодня вот тоже… Он ведь так ждал, так гадал, приедет ли Коробейников. А приехал – сумел выдавить лишь пару слов, и то всё не те. Что за натура такая дурацкая!
- Яша, ты спи, - пробормотала Анна во сне, словно чувствуя его терзания.
А и вправду – чего ему терзаться? Он спасён - теперь уже окончательно. У него есть целый мир и самая прекрасная в мире женщина!
Внезапная острая нежность пронизала всё тело от макушки до кончиков пальцев. Должно быть, почувствовав напряжение мускулов, Анна проснулась окончательно, подняла встрёпанную пушистую голову и вопросительно взглянула на него. Яков виновато вздохнул, целуя жену в висок.
- Ничего. Спи, Анечка!
Но, видимо, она отдохнула уже достаточно, чтобы его желание не показалось ей неуместным. Тёплая маленькая ладошка скользнула в вырез рубахи и легко погладила по груди.
- Яков Платоныч, отдохнуть вам надо.
Это вновь заставило его напрячься. Слова эти, после которых случилась первая их близость, стали в семье Штольманов обозначать вовсе не то, что во всех остальных семьях. Анна Викторовна, совсем уже проснувшаяся, поняла его немой призыв, тихонько хихикнула, быстро поцеловала его в щёку и тут же мгновенно отстранилась.
- Аня?
- Сейчас Митя проснётся, - извиняясь, произнесла жена.
И в тот же миг из колыбели донеслось недовольное кряхтение. Дмитрий Яковлевич орал крайне редко, в случаях, можно сказать, исключительных. Обычно он выражал свои желания другими, более сдержанными способами.
- Да, милый, кушать пора! – проворковала Анна, спуская с плеча бретельку ночной рубашки.
Яков сам встал за сыном, потом зажёг ночник у кровати, чтобы видеть, как она кормит. С растрепавшимися волосами, румяная со сна, она была так пронзительно прекрасна, что у него сердце зашлось.
- Исполнились мои мечтания: Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, Моя Мадонна –
Чистейшей прелести чистейший образец!
Кажется, он сам не заметил, как произнёс это вслух.
- Ой! – насмешливо сказала Анна, прикладывая сына к другой груди. – Что это с вами, Яков Платоныч?
- Сам не знаю, - улыбнулся он. – Говорят, люди читают стихи, когда исполнены любви.
- Правда? – хихикнула она.
- Ну, я так слышал, - Яков пожал плечами, улыбаясь. – Убиенный прапорщик Ишутин читал барышням в борделе «Бородино».
- Ох! Что, правда?
- Лизавета Тихоновна была очень впечатлена. О том доподлинно записано с её слов в полицейском протоколе.
Помнится, он чуть дар речи не потерял, обнаружив эту запись: «Коробейников, вы с ума сошли?» Помощник побледнел, но ответил храбро: «Вы же сами учили не упускать никаких подробностей!» Порой Антон Андреич просто ввергал Штольмана в ступор своей непосредственностью.
Дмитрий недовольно хмыкнул: дескать, что за веселье, когда я ем!
- Не смешите меня, Яков Платоныч!
- Не буду.
Приняв насытившегося Митеньку, Яков хотел уложить его в колыбель, но у сына были на этот счёт совсем другие планы. Он недовольно закряхтел, крепко взяв отца за грудки так, что ворот напрягся.
- Полицейским будете, Дмитрий Яковлевич? Хватка железная.
Сын агукнул, но выпускать отца не собирался. Более того, теперь он пытался сесть. Яков Платонович покорно позволил ему это сделать. Упрямством Митя обладал чисто фамильным. Даже удвоенным, если сложить упрямство Мироновых и Штольманов. Непростой характер сына уже давал себя знать.
- Что за манера полуночничать? – недовольно спросил отпрыска Яков.
Анна рассмеялась в кровати:
- Перенимает привычки отца. Тоже будет работать по ночам.
Митя и впрямь сделался бодр и весел, издавая какие-то звуки, но всё ещё крепко держа отца, чтобы тот не вздумал вернуть его в кровать.
Первое время Яков боялся, что Митя вырастет вовсе ручным; все беспрерывно таскали его. Но когда сын подрос настолько, чтобы начать проявлять характер, выяснилось, что ему это вовсе не нравится. Больше он в своей короткой жизни ненавидел только пелёнки. Когда его пеленали, он проявлял всю свою волю, выдираясь отчаянно, а временами даже повышая голос. Это привело к тому, что однажды измученные родители просто махнули рукой и позволили ему спать так, как ему заблагорассудится. Удивительно, Дмитрий тот же час успокоился и сладко уснул, наслаждаясь отвоёванной свободой. С тех пор его уже не пеленали.
То же касалось сидения на руках. Удобно Штольман-младший чувствовал себя только на твёрдой поверхности, а вот руки людей, которые его брали, у него доверия не вызывали. На руках у матери он соглашался находиться лишь при условии, чтобы она сидела. Тогда Митя спокойно играл с ней и даже вёл какие-то степенные беседы.
Исключение составляли руки отца. Кажется, Митя находил их достаточно надёжными, более того, ему нравилось там сидеть и развлекать Якова разговорами на каком-то своём языке. И сейчас, невзирая на позднее время, он занимался тем же самым. Пытаясь его убаюкать, Яков ходил по комнате от кровати к окну и обратно, но заметного эффекта не добился.
- Яша, давай его мне. Я ему спою, может уснёт?
Впервые услышав, как Анна поёт, Яков был поражён. Нет, он знал, что его жена – самая замечательная и самая талантливая женщина на свете. Просто не ожидал почему-то. Его самого завораживал её негромкий грудной голос, очень точный и богатый интонациями. Мите он тоже нравился, но сегодня он был не настроен так просто отца выпускать, всё так же стискивая маленьким, но крепким кулачком воротник его рубашки.
- Ничего. Я попробую методы рационального убеждения, - пробормотал Штольман. – На него обычно действует.
Ночь была прохладная, пол неприятно холодил босые ступни. Самому хотелось в постель, где ждала его тёплая, желанная Анна.
- Дмитрий, надо спать. Всё спят. Дедушка спит, бабушка спит. Антон Андреич спит. Доктор тоже спит.
Анна хихикнула на кровати.
- А что так нашу маму веселит?
- Не думаю, что дедушка с бабушкой спят.
- Анна Викторовна, вы подрываете основы воспитания! Ты же не хочешь, чтобы я прямо сейчас рассказал ему, чем занимаются ночью молодожёны?
- Я забочусь о вашей репутации, Яков Платоныч! Нельзя, чтобы папа сына обманывал.
- Папа обманывает из педагогических соображений!
- Ну вот, все так говорят, когда врут маленьким! И потом, Александре Андреевне совсем не идёт быть бабушкой.
- А кто же она ему?
- Крестная. Как в сказке – Фея-Крёстная.
- Ну, это тоже подходит, - удовлетворённо сказал Штольман. Александра Андреевна в их доме точно была ангелом-хранителем. Представить в этой же роли дядю Якову было почему-то сложно.
Митя внимательно прислушивался к беседе и посильно в ней участвовал, вставляя какие-то короткие реплики.
- А у Мити, кажется, скоро будет молочный брат.
- В каком это смысле? – насторожился Штольман.
- В прямом, - безмятежно сказала Анна. – Когда одну грудь сосут.
- О, Господи! – только и сумел вымолвить он, думая, что Александра Андреевна в её возрасте…
- Жаннетт, - всё так же безмятежно пояснила жена. – И Карим.
- Ну, это уже чёрт знает что! – рассердился Штольман. – Я же запретил ему девушку обижать!
- Так она и не обижается, - улыбнулась Анна. – Она улыбаться начала, ты разве не заметил?
Да не заметил он! Он, честно говоря, вовсе на Жаннетт не смотрел.
- А наш Антон Андреич влюблён.
- В кого? – снова оторопел Штольман.
- Ох, Яков Платоныч, как же вы не наблюдательны! В ту женщину, конечно. Которая пропала. Ничего-то вы в нежных чувствах не понимаете. Нам обязательно надо её найти.
- Угу, - сонно пробурчал на руках Дмитрий Яковлевич.
- Яша, а ты заметил, что он с тобой разговаривает?
- Кто? Антон Андреич?
- Само собой, Антон Андреич тоже не молчит! – несколько сердито откликнулась Анна. – Я Митю имела в виду.
- Да он сам с собой говорит, как мне кажется.
- Ничего вы не понимаете, Яков Платоныч! Он говорит, как он папу любит.
- Ну, вы откуда знаете? Разве эти звуки можно понять?
Анна вдохнула:
- Да просто он говорит о своих чувствах столь же внятно и содержательно, как его отец. Привыкла, знаете ли, разбирать.
- Аня, хочешь сказать, что я идиот? – грустно спросил Штольман.
- Ага! – бодро и радостно подтвердил Дмитрий Яковлевич.
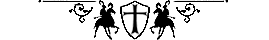
Следующая глава Содержание







