
Весной 1886 года Штольмана откомандировали в ведомство Варфоломеева по личному распоряжению градоначальника Грессера в силу «обстоятельств особой государственной важности». В Петербурге гулял вихрастый, баламутный апрель: с яркой небесной просинью в лужах и полузабытыми запахами парков. Дни купались в солнечном пригреве, и над сугробами дрожал банный пар…
Под сокрушенные вздохи Путилина Яков собирался в своем кабинете, с затаенной грустью окидывая прощальным взглядом привычные стены, стеллажи с документами, карты над столами. Скромные проводы устроили прямо здесь, на службе. И, сидя за товарищеским столом, он ловил теплые и жалобные взгляды сослуживцев. Начальник громко вздыхал - им не хотелось отдавать своего следователя.
- Работы много, а делателей мало! - восклицал Путилин, подергивая себя за роскошные бакенбарды, - на кого я участок оставлю, а, Яков Платоныч?…
- Ничего, Иван Дмитрич, не грустите. Вернусь через полгодика, соскучиться не успеете, – улыбался Штольман, но на душе было неспокойно.
Он только что раскрыл Дело о краже в Зимнем дворце, порученное ему начальником императорской охраны полковником Варфоломеевым. В его личном Досье оно шло под №8604. «Дело о фальшивом туристе» - как он сам называл его.
Удачно потянув за нить пропажи, ему удалось предотвратить серийное убийство. И все бы ничего, но он тогда, помимо прочего, сделал одну тревожную находку, заряженную неясным будущим… Находка выстрелила и повернула течение его жизни: эта случайно найденная за камином шкатулка хранила шифры и шифрованную переписку на тонкой папиросной бумаге. Бледный и озабоченный Варфоломеев велел никому не сообщать об этом. Очень скоро полковник взял его к себе и приставил ко Двору с тайным заданием: найти автора шифровок.
Настоящая гроза дворца и острый на язык Григорий Афанасьевич Варфоломеев был начальником личной охраны Его императорского Величества, а по совместительству главой тайного департамента политической разведки, к ведению которого Штольман теперь принадлежал.
***
Царедворствовать Якову совершенно не хотелось. Принюхиваться к тайным силам высокой политики тоже. Не для него этот придворный мир, полный выученных обрядностей. На золоченой, как бы игрушечной, сцене всегда разыгрывали одни и те же действа, где люди словно механические куколки играли назначенные роли.
С непостижимой легкостью на этой сцене переходили от печали к веселью, от горя к радости. В один и тот же день утром – панихида или погребение, вечером – бал; те же лица, что утром являлись сосредоточенными и нахмуренными – вечером расцветали, дыша беззаботным удовольствием.
Житейские мелочи здесь превращались в грандиозные события: обеды, прогулки, выезды и посещения вдруг стали центром жизни обескураженного Штольмана!
Он ведь любил совсем другое. Лики северного города, отраженные в причудливых местах, куда забрасывала его работа, средь разных по положению людей - привлекали его. Он любил читать их истории, словно книги, разгадывать загадки их страниц, а при новой службе оставалось только одно – дворцы да приемы.
Но что делать – приказ есть приказ. И он съехал с родного участка на Офицерской в назначенный ему кабинет в градоначальстве.
С тех пор он бывал у своих редко, гораздо реже, чем ему хотелось, и все время крутился при Дворе. Порой в сутолоке целого дня, в разговорах вполголоса, терпя невыносимую скуку, он наблюдал за аристократами, министрами и посланниками – собирал сведения и делал выводы. И регулярно мотался с докладами в Гатчину.
Но, на удивление и против мрачного ожидания, он довольно быстро сошелся характером с новым начальником, бывшим армейским человеком. Представительный и грузный Варфоломеев двигался и думал стремительно и был столь легким на подъем, что заражал своей энергией всех вокруг. С ним рядом пространство кипело и заряжалось высокой целью. Казалось, он все еще бивуачил где-то на военных полях Болгарии, мгновенно принимая решения и вызывая отклик одним своим примером.
Они вообще походили друг друга. К тому же начальник имел одно прекрасное свойство: давая полную свободу действий, прикрывал спину в случае досадных недоразумений, неизбежных при такой работе. А недоразумения возникали.
Григорий Афанасьевич ввел Якова Платоновича в салоны. Заручился поддержкой министра императорского Двора Воронцова-Дашкова. Организовал представление императору в новом качестве, объяснив монарху нужность Штольмана при Дворе на длительный срок. И выпустил Якова в свободное плавание.
***
Штольман не мыслил себя без служения. Как сложный ключ, однажды выточенный в прихотливую форму, в слоистом, зыбком мире русского общества он был на своем месте. Он вдохновенно отмыкал тяжелые замки тех задач, что ставила перед ним полицейская служба. Он не успокаивался, пока не находил решения, даже тогда, когда отступались другие… Много нелицеприятного слышал он о себе – за то, что не лебезил, не считался с условностями, за дерзость дознаний.
Но раскрываемость у него была фантастическая, и начальство смотрело сквозь пальцы на его методы и подходы. И до поры до времени он верил, что незаменим.
Но теперь, после безобразного оговора в свете, когда его выпнули со Двора как приблудного пса, позабыв все многолетние заслуги, он ощутил – незаменимых нет. И он мог бы уйти в тень, забросив на время задание Варфоломеева, да и головоломку с деньгами Негоша, над которой по-настоящему еще не работал. Не будь он Штольманом, он так бы и сделал. Но, однажды избранный, концентрированный уклад его жизни так подчинил его себе, что он уже не смог бы выйти в пространство новых занятий, даже если бы захотел… И Яков знал это о себе со всей очевидностью.
И теперь, мчась в Гатчину, он надеялся, что вместе с полковником они что-то, да придумают. Его враг, устроивший такую свалку в жизни Штольмана, был влиятелен, но и полковник Варфоломеев, входивший к Его величеству без доклада, - не шахматная пешка.
Помотавшись по войнам и обретя боевую дружбу с тогдашним наследником Александром, он вышел из-под пуль в чине полковника и дошел до высшей точки службиста – приближенности к монарху. И он всего себя отдавал работе, постоянно находясь при императоре.
Григорий Афанасьич был не просто близким доверенным царя, он был человеком-кабинетом. Яков не знал достоверно – какие функции он выполнял кроме охраны, но полковник словно бы ведал всем. Явные и тайные дела Двора в его голове связывались паутинами сложных нитей. Обстоятельства доносов, покушений и сплетен, текущих политических интриг – всё хранилось по папкам в его государственном мозгу. Полковник многое успевал и многое предвидел.
***
…В три часа ночи Штольман подъехал к караульной кордегардии на Адмиралтейском мосту. Его уже несколько раз окликали лейб-гвардейские разъезды, и по недельному паролю допускали ехать далее. Теперь же следовало выйти и поговорить с караулом. Штольман спрыгнул с подножки, радуясь возможности размять ноги…
Слева темной громадой молчал Приоратский парк, а справа, за металлической оградой, раскинулся замкнутый, скрытый от всех мир Гатчинского дворца. На мосту было холодно и шумно. Штольман подошел к каменному парапету и глянул вниз. Во тьме угрожающе и пенисто рычал поток, переливаясь из одного озерного блюдца в другое замысловатым каскадом. Остро пахло тиной, замшевые камни тускло блестели под фонарем.
Обитатели квадратной караулки давно знали его в лицо, но на заставе царил установленный порядок, который всегда исполняли неукоснительно: Штольман вынул и показал пропуск с маленькой фотографией.
- Доброй ночи, Ваше высокоблагородие, проходите.
- Здравствуйте, братцы. Что, давно заступили?
- Так точно, продрогли малость… Да оно ничего, служба!
- Ну, бывайте.
И, крикнув вознице: «ожидайте меня здесь», Штольман пошел от заставы пешком вглубь сырого парка.
Гатчина глубоко дышала, сонно вздрагивая криками ночных птиц и резкими сопилками кузнечиков. Мягко плескалась озерная вода, в илистом сумраке важно квакали лягушачьи пузыристые голоса. Из дальних деревушек доносился собачий лай… Воздух, и шепчущие звуки, и весь гатчинский покой были такими домашними, такими уютными – Штольман любил бывать здесь.
Что-то скажет Варфоломеев?… Григорий Афанасьевич, если был в сердцах, выражался прямо и смело, не разбирая лиц. Любил ругать врагов «канальей», а то и «сволочью». Таким манером он регулярно честил министерские и придворные силы и даже некоторых из Великих князей. Причем последних – в первую очередь.
Но все же он был человеком широкой натуры, добродушным и хлебосольным. В его тесную квартирку в Кухонном корпусе стекалась уйма народу – от министров и сановников до простых армейских, кто пришелся ему по душе. Он держал для них открытый стол, на который, впрочем, не тратил ни копейки – все необходимое ему присылали из дворцовой кухни и погребов…
Штольман обошел озеро, плещущее в темноте, и повернул на Карпин мост: с воды потянуло туманом, и ее свежий запах смешался с душным ароматом ночных цветов… Его снова ожег ледяной озноб, как и несколько часов назад, посреди рокового бала и венской музыки…
Он застыл на горбатой спине моста и потрогал лоб. Ярким веером свернулись в точку два года, и он вдруг вспомнил, как в такую же душистую ночь в 86-м, в один из первых приездов сюда он встретил в саду Нину Аркадьевну Нежинскую, фрейлину Ее императорского Величества, ошибку и причину многих его бед. Он тогда вышел после доклада раздышаться.
Штольман вспоминал, как гулял тем августом в цветнике Голландского сада, довольный и расслабленный. Слушал, как ветер расчесывает верхушки старых лип, и думал, что все в его жизни идет не так уж плохо. Он недавно перешел от Путилина к Варфоломееву и надеялся, что не задержится надолго. Его репутация была высока, полковник был им доволен. Редкая минута, когда Яков чувствовал себя спокойным и размякшим…
Она вспыхнула перед ним! Застигла – опасно, маняще и пряно, как ночной цветок ударяет в ноздри. Зажгла сердце мерцанием быстрых зрачков, изгибами маленького кошачьего тела.
- Oh, je pensais que j'étais tout seul! – произнесла она с сильным чувством то ли испуга, то ли азарта, немного задыхаясь.
- Moi aussi!* – в тон ей, быстро ответил Штольман.
* ---------------
- О, я думала, что я совсем одна!
- Я тоже!
-----------------(франц.)
Они неловко помолчали, вопросительно глядя друг на друга, и она заговорила, мягко усмехаясь:
- Vous aussi flâner la nuit?…
- Heute ist eine besondere nacht,* - только и нашелся, что ответить Штольман, почему-то по-немецки.
* ---------------
- Тоже любите бродить ночью? (франц.)
- Сегодня особенная ночь.
-----------------(нем.)
- Вы забавный, – рассмеялась она, и ему понравился ее смех, такой заразительный, беспечный!… От этого смеха его повлекла кипящая торопливая волна, и он вернул ей азарт смеющимся взглядом.
- Нина Аркадьевна Нежинская, фрейлина Ее Величества, – протянула она грациозную руку, но, спохватившись, что на ней не было перчаток, помедлила секунду, а затем уверенно тряхнула ладонью.
Тронутый ее жестом, так легко презревшим формальности, он протянул обе ладони и горстью зажал прохладную маленькую кисть:
- Штольман, Яков Платонович. Чиновник по особым поручениям сыскной полиции.
И немного неуверенно взглянул в ее лицо, ожидая привычного тонкого презрения, легкой гримаски высокомерия к его недостойной профессии, с чем он так часто сталкивался при дворе.
- Oh… Voulez-vous flâner avec moi?…* Якобъ… – протянула руку Нина, интимно произнеся его немецкое имя.
* ---------------
- О… Не хотите ли побродить со мной?…
-----------------(франц.)
И полностью покорила его. Он увлекся так сильно, что стал наведываться во дворец через день, чтобы только встретиться с ней, – всю ту пору, пока она была в дежурстве. Меньше чем через месяц они стали любовниками.
В столице Нина занимала комнаты в доме ее тетушки княгини Горчаковой, почетной фрейлины Двора, живущей в то время в Москве. Нарядный французский дом на Большой Монетной, что красовался веселыми башенками в густой зелени акаций, сделался местом их постоянных встреч.
По вечерам он приезжал со службы прямо к ней – Нина сбегала с мраморной лестницы и обвивала его шею тонкими руками в каскадах шелковых рукавов. Потом она вела его в комнаты, мимо греческих и японских ваз, охранявших двери, словно кавалергарды…
Они целовались, опьяненные любовью, и дрожь неярких свечей била в его сердце сладкой истомой, и золотила ее маленькое гибкое тело. Под их руками падали и растворялись тесные покровы одежд, и приличий. Ветви качались за окнами, и она торопила его и мурлыкала грудным смехом, будто переливала шелковые волны внутри изящного горлышка…
***
Яков яростно пнул серый равнодушный камень моста и вышел из оцепенения. Теперь-то он знал – вовсе не случайно встретились они тогда. Спланировано, обдуманно, расчетливо застигла она его и увлекла, как раз после его служебного перевода… Дааа! Ведь тогда же в очередной раз в столице объявился и князь. А Нина говорила, что незнакома с ним. Интересно, сколько раз она на него доносила?
Шагая по гнутым аллеям ко дворцу, Яков горько осознавал, что все прошляпил. Что он мог бы и не узнать о давней связи Нины с Разумовским – тесной или просто дружеской – хотя, кого он обманывает… Если бы не маленькая личная подробность, желчно оброненная его ненавистным врагом... Что толкнуло князя хвастаться своей осведомленностью? Прицельный расчет или он просто устал делить со Штольманом любовницу? Как же это больно.
Ревность, спровоцированная князем, пронзившая сердце Якова тысячей острых игл и в секунду спалившая его разум, должна была убить его на дуэли… Только вот он не умер.
И тогда в отместку князь уничтожил его репутацию. Нина ни разу не посетила его и не предупредила о сплетне… Все между ними было не тем, чем казалось ему. Яков чувствовал унижение, и не хотел признаваться себе еще и в этом.
Все предстояло переосмыслить. Но после! После того, что решит Варфоломеев.
Он поспешил, разгоняя шаг, мимо нестриженых кущ фруктового сада, минуя правое царское крыло, до Кухонного каре, где квартировала прислуга. Он боялся, что Варфоломеева придется будить, однако в комнатах полковника горел свет.
Идя по хрусткой дорожке к крыльцу, он слышал, как его четкие шаги безжалостно рвут уютную тишину, бьются одиноким метрономом: «хруп. хруп. хруп». Осколки прошлого, словно битое стекло, вгрызались в подошвы…
Может, это его разбитое оземь сердце хрустело под ногами?
Якову резало глаза. И он щурил их, не позволяя слезам пролиться. Терпкий запах увядающей листвы царил вокруг, темные ветви вспыхивали парчовыми молниями в фонарном свете. Шаги дробили: «Ни-на. Ни-на. Ни-на»…
Из золотистого тепла сторожки выскочил дежурный привратник. Он повел Якова сводчатыми низкими лестницами и длинными коридорами с темными заводями зеркал, где все еще отражался неприкаянный призрак бедного Павла… Они прошли, минуя канделябры с оплывшими свечами, на третий этаж в приемную полковника, и Штольман остался один.
Он уселся на диван. Протянулись минуты. Игривый смех из далекого прошлого коснулся его слуха… Он закусил губу. Что же ты наделала, Нина… С хрустальным звоном осыпался ее смех и закатился куда-то в чащу ветвей, и пропал.
***
Полковник вышел к нему в гостиную в синем атласном шлафроке поверх тельной сорочки, мигая на свет и походя на взъерошенного черного сыча.
- Здравствуйте, Штольман, – ничуть не удивившись, радушно приветствовал он Якова.
Штольмана всегда удивлял контраст между его крупными чертами, кричавшими о какой-то героической мужественности, и добродушным голосом. Под необычайно выдающимся лбом с косой молнией шрама и темными глазами (в мешковатых складках традиционно пьющего вояки) жил бурбонистый нос, и всего в его лице было с избытком. Вообще, вся его физиономия и фигура были вылеплены сильно и красочно, словно они достались ему от каких-то далеких воинственных предков. И Яков в свои тридцать восемь чувствовал себя рядом с ним мальчишкой.
- Здравствуйте, Григорий Афанасьич, – подал руку Штольман.
Сухими фактами и стараясь ничего не упустить, он доложил о событиях последнего вечера: о фантастических сплетнях, ожидавших его после дуэли, об утечке подробностей дела Негоша, об отстранении, о невозможности более работать при дворе.
- Скандал велик, Григорий Афанасьич, – сказал Штольман. – Я всерьез опасаюсь, что доверие императора безвозвратно утрачено. Князь нынче в фаворе, ведь он обходителен и успешно рассеивает грусть Ее Величества по родине. Он очень ловкий противник. И он не унялся, пока не вывел меня из игры… Я не представляю, как продолжать, как закончить дело…
Варфоломеев слушал, прикусив щеку.
– Что думаете, Григорий Афанасьевич? Следует ли мне обождать немного и добиться пока перевода в свой участок или…
- Скрыться вам надо, вот что! – заявило начальство.
- Куда скрыться, Григорий Афанасьич?… Надолго? А как же наше дело?
- Пока все не уляжется, голубчик мой, пока все не уляжется. – задумчиво проговорил полковник. – Благословлю-ка я Вас в провинциальную ссылку. Ваша болдинская осень, едрить-ее-налево…
Помолчали.
Яков, мрачнея все больше, потихоньку переместился вправо к массивной фигуре полковника, и вперил взгляд ему в висок. Это был не тот ответ, которого он ожидал. Полковник же, кажется, воодушевился.
- Да-да, поезжайте, – сказал полковник, покачиваясь с пятки на носок посреди гостиной, – поезжайте, Штольман… Поработаете полгодика в тихой провинции, хоть отвлечетесь от этого дела. Оно вам все печенки напекло, я вижу. Вы оставьте пока политическое… Посылаю вас в Затонск, есть такой тихий городишко, – притушив голос до шелеста, произнес полковник, – и постарайтесь пожить скромной, но достойной жизнью простого обывателя, как если бы вы заново родились.
Растерянный Штольман от таких слов начальства заполыхал лицом. Он что, издевается?.. Как – «оставьте»? Он что, выбрасывает его?!
Варфоломеев славился тем, что своих не бросает, и Яков знал это так же хорошо, как свое упрямство. Штольман чувствовал себя с таким начальником, как с матерью родной. А что же теперь?
- Как прикажете понимать, Ваше превосходительство?… – выдохнул он без голоса, одними губами.
- Вы не горячитесь, сударь мой, не горячитесь, – мягко произнес Варфоломеев, обернувши к Якову лицо, – смотрите на это, как на новое задание, государственной важности.
Он потрепал самого себя по щеке, измятой подушками, и прошелся по комнате. Штольман почтительно поворачивался за ним.
– Вам надобно теперь в себя приходить, нервы восстанавливать. Скандальные проделки князя я беру на себя. И полугода не пройдет, как все забудется в нашем ветреном свете… Слушок при дворе пустим о злостном небрежении князя дуэльным кодексом, он и умолкнет, поскольку самолюбив не в меру. О личной благодарности Вам Князя Негоша я еще раз напомню императору, и доведу собственную версию вашей ссоры с Разумовским, самую простую. Клин клином, тык-скть… – и он остановился, глядя на край ковра у себя под ногами.
- Что прочно в Петербурге? – задумчиво пробормотал полковник, – ничто и никто, ни мнение, ни люди, ни системы… Вчера Лорис-Меликов, сегодня князь и его общество, завтра Витте и мы, а в итоге не знаешь, чего и хотят…
- Что же до вашей уязвимости от известной особы, – продолжил он, как бы очнувшись, – тут, батенька, один мой совет, и ничего кроме совета: срочно ищите себе новую даму сердца, – и взъерошенный сыч густо расхохотался.
«Нет уж, хватило уже приключений с Ниной», – подумал Штольман. Задорный темперамент полковника не казался сегодня хорошим примером.
Перешли в аскетичный приемный кабинетик, который, однако, сиял военными трофеями, развешанными по стене, и наградными саблями: золотой и алмазной. Полковник шел в ногу со временем и потому, кроме электричества, кабинет был оборудован такими чудесами прогресса, как пара ярчайших свечей Яблочкова и телефон.
Пока Штольман буравил взглядом маленькое окно с синим ночным мраком в золотистом переплете рамы, полковник по телефону отдавал распоряжения секретарю. И через четверть часа сосредоточенный заспанный секретарь, обговорив с Яковом детали, выправил для его новой провинциальной жизни девственно-хрусткие полицейские документы. Прилагался и билет 1 класса на курьерский скорый.
- Это все, что можно было выбить сегодня. Купе вам не досталось, батенька, поедете в общем вагоне, зато избежите долгих проверок. В Затонск о Вас мы уже телеграфировали. – Варфоломеев сдержанно зевнул в кулак и размашисто расписался под бронзовой лампой с зеленым абажуром.
Якову вручили бумаги. Пока он понуро листал их, Григорий Афанасьевич говорил:
- Вы, Штольман, редкая птица в наших местах. Цены Вам нет на Вашем месте, но от принципиальности своей часто страдаете. Сложно к дворцовым условностям притираетесь. Никого не терпите, ничего не спускаете.
- Так Вы обо мне все знали сразу, Ваше Превосходительство. Я никогда от Вас себя не скрывал, - Яков поднял голову от бумаг.
- Да, Яков Платоныч, все знал, каюсь… Потому и не обессудьте, что засунул Вас в самый котел с кипящим варевом, к которому Вы не слишком подходили. Однако наблюдения Ваши и талант иска были мне, ох, как нужны. Потому и не отпускал Вас так долго… Поплатились Вы! …за мою амбицию…
- Благодарю за высокое доверие, Григорий Афанасьевич. Только вот теперь я не смогу бросить все… Вы ведь знаете…
Полковник похлопал по плечу мрачного Штольмана и бодро сказал:
- Бросать Вам почти ничего не придется, голубчик мой. Сможете поработать над фактами в тишине провинции. Факты в порядок ведь еще не привели, Яков Платоныч, не успели? То-то…
Он перевел взгляд на стенные часы и в задумчивости подергал бровь:
- Мда-с, амбиция на амбицию… Ну что ж, значит, князь теперь Ваш главный объект. Он, конечно, хитер, этот Ваш Разумовский. Он еще и мира с Вами искать будет, вот увидите! От ведь жучина какая, – с угрозой добавил он, – ничем не гнушается. Не суд, так пистолет, не пистолет, так болтовню выдумал… Уж не каналья ли эта, Его императорское Высочество Владимир Александрович со своей дражайшей супругой тут ему помогают, уж не их ли то происки! Надобно проверять… Сейчас же и займусь, с моими из МИДа посоветуюсь…
И он позвонил в навесной колокольчик:
- Извольте со мной позавтракать, все равно уж спать ни Вам, ни мне не придется.
Отказываться было нельзя, и Штольман согласился. Прямо в кабинет внесли дымящиеся тарелки. Пока дежурный лакей ловко расставлял на круглом приставном столике приношения и куверты, гоффурьер нараспев докладывал:
- Пирожки с начинкой из дикой козы, котлеты куриные под гарниром и заливное из ершей! Так же квашеные огурцы и сладкий горошек. И имбирные пряники к чаю, от Филлиповых! – с упоением прибавил он, одновременно внимательным глазом отмечая правильность расставленных блюд.
- Чего-нибудь еще изволите желать-с, Ваши Превосходительства? – чуть поклонился он.
- Достаточно, милейший, благодарим, – махнул Варфоломеев. И жестом пригласил Якова, – присаживайтесь.
Они расселись по сторонам стола.
За завтраком начальник пытался неуклюже, но от души утешить Штольмана. Тыча в его сторону ножом как пикой, он прямо, без вывертов говорил:
- Вы, голубчик мой, дорожку какой-то группе из наших, из дворцовых, перешли, ясное дело. Князь у них, по-видимому, – связной, вон, сколько по заграницам шастает. А Негош этот, вестимо, разменная монета для европейца покрупнее – то ли германца, а то ли англичанки. Вот и покумекайте там, в провинции: обдумайте все на досуге, не торопясь, да выводы мне с курьером пришлите.
- Слушаюсь, Ваше Превос…
- Вы ешьте, ешьте, Штольман, - перебил его полковник.
И с аппетитом хрустя пупырчатыми огурцами, Варфоломеев принялся балагурить:
- Вы, Яков Платоныч, из-за женского влияния погорели, уж я-то знаю. При такой службе, как наша, женщинам воли давать нельзя. Прогуливаться – пожалуйста, детей во славу отечества созидать с ними можно, а вот шуры-муры оставьте для мечтательных бездельников. Нам с вами некогда глупостями заниматься. Детей опять же опекать приходится, мои, сами знаете, все от разных дам. Ох, и мороки с ними… – уставившись поверх Штольмановой головы, пробормотал полковник. – Что же до Вас, мой голубчик, то императору я так и доложу, дескать, Штольман наш из-за женской неверности пострадал и на дуэль обидчика вызвал. Его монаршество человек крепко-семейный, не то, что я. Измен ничьих не одобряет, и Вас от души простит, вот увидите. Тогда и вернетесь, свежим огурчиком, да в наш рассольчик! - он по-свойски подмигнул Якову и хлопнул его по плечу крепкой пятерней!
«Хорошо, хоть не по ране», - подумал Штольман, но впервые улыбнулся. Полковник немного утешил его отчаяние, все-таки они не первый день знали друг друга…
Подхватывая на кус хлеба золотистую котлету и жестикулируя вилкой, полковник чеканил:
- Никому не позволю вывести из-под монаршей благосклонности моего лучшего человека.
Потом он хряпнул водки из запотевшего хрусталя (он любил выпить, это все знали) и пришел в благодушное настроение.
- Вы сыскную работу в городе любите более всего остального, я знаю. Вот и поезжайте, послужите старшим следователем Затонска, – вновь по-отечески убедительно кольнул прибором в сторону Якова Варфоломеев. – Только без Вашего привычного разгону, голубчик мой, без нажиму! А потихонечку-полегонечку… Дел там, верно уж, мало!
Штольман почти смирился с неизбежным и в унынии прикидывал, как ему распорядиться оставшимся временем. Надо успеть собраться. И Нина… Что она знает, о чем догадывается? Они не виделись с тех пор. Следует, наверное, попрощаться… Все равно объяснение неизбежно.
- Телеграфируйте мне прямо со станции, как прибудете. Писать друг другу почтой не станем, сколько это возможно – сами знаете, перлюстрация не дремлет. А мне надобно, чтобы Вас еще долго не хватились. Пусть до поры не знают, где Вы. Когда намереваетесь ехать?
- Медлить я не хочу, сейчас же и еду, – Штольман почувствовал, что смертельно устал. Еще так много спешных дел и сборов. А ему уже хотелось поскорее испариться, исчезнуть хоть на часок из этого гончего бега. Оказаться где-нибудь в другом месте, исчезнуть совсем. Затонск так Затонск, в конце концов, не все ли равно.
Провожая двором, Варфоломеев напутствовал на прощание:
- Отложите прессу, «…Инвалида» и «Вестник…» любимый забудьте. Либерала своего армянского бросьте1. Остановите мысли, освежитесь простотою жизни! Книги вот почитайте, романы. Из смешного что-нибудь: из молодых – Чехов-от, недурен, говорят. В бани, голубчик, сходите. Вокруг поглядите, да знакомства сведите с обывателями, не заметите, как и зима пройдет. Словом, делайте то, чего Вы никогда еще, Яков Платоныч, не делали, – и с тем отпустил его.
На порядком продрогших у караулки дрожках с бородатым возницей к утру он вернулся в Петербург. Зайдя в свою квартиру на Екатерининском, он, не раздеваясь, прошел в кабинет. Сейф. Здесь хранилось все самое ценное: личное Досье Дел, особо сложных и запутанных, которое он вел с 1867-го – с первых дней работы под началом Путилина. Составленная им за это время обширная картотека тех, кого он вылавливал для аристократов. И неизвестный никому, скрупулезный каталог всех этих бесчисленных Высочеств, который у него составился за двадцать два года: и тех, кому он помогал; и тех, кого ловил на нечистом; или даже тех, кого подозревал без явных доказательств… За такие документы некоторые лица могли и полцарства отдать. Они ни в коем случае не должны попасть в чужие руки.
Потом он собрал пару сундуков нехитрого скарба: европейские атласы, и книги по уголовному праву. Фотоаппарат и пластины, пару костюмов, да немного личных вещей. Деньги с парочкой ценных ассигнаций (в том числе и той, лично врученной почившим императором Александром II) он рассовал в саквояже вместе с документами. Простился на лестнице с консьержем, скомандовал вознице: «на вокзал!» и погнал шумным, утренним Невским на Николаевскую площадь.
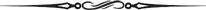
1. Штольман регулярно читал военный журнал «Русский Инвалид», «Вестник Европы» и колонки знаменитого юриста Джаншиева в «Юридическом Вестнике» и «Журнале гражданского и уголовного права».
Этим он отдавал дань учебе в Императорском училище правоведения. Право интересовало его. И если бы не его детская клятва самому себе о «поимке всякого, кто взрывает общественный покой», то быть бы ему юристом.
Однажды, побывав у Якова на квартире, Варфоломеев заметил кипу разбросанных на столе газет с подчеркнутыми пером местами. Слюбопытничал, и узнал авторство Джаншиева.
- Вы это читаете?! – воскликнул он.
- С юности, Григорий Афанасьич. А Вы, что же, его не жалуете?...
- Совсем. Фантазер этот Ваш Джаншиев, и либерал… Но я понимаю, отчего он привлекает Вас: юридическими закорючками, я прав? Вам по долгу службы интересно. Не может же он Вам нравиться своими фантазиями о справедливости и всеобщей просвещенности?
- Вы не правы, Ваше Высокопревосходительство, – смутился Яков, – мне он нравится именно своей верой. За такими прогрессистами будущее. Пусть и нескорое, пусть и более скромное, чем в его мечтах, но за следующими поколениями просвещенных людей придет большая перемена общественного уклада! Я встречался с ним как-то, это человек подвижного ума, энергии, и фантастического провидения.
- Вееерой, – сразу заскучнев, протянул Варфоломеев, – веровать надобно лишь в Бога, да Помазанника! Ох, Яков Платоныч, либерал Вы мой доморощенный, слушаю я Вас и думаю, зря Вы себе эти пустые фантазии заводите, ох, зря. Так, чего доброго, и до крамолы договоритесь. При мне-то можно, я в Вас уверен и не препятствую таким увлечениям, хоть я и не люблю этого, но Вы поосторожней все же. Нынче не шестидесятые, не те времена на дворе. Враги трона и монархии из-за таких вот фантазеров как куры вылупляются – на улицах-то что творится! И Джаншиев этот Ваш вовсе не тот, за кого себя выдает.
- Кто ж он, по-Вашему?
- Да дитя он безответственное!
- Он не дитя, – упрямо возразил Штольман.
- Дитя, опасное и вредное, – презрительно-устало произнес Варфоломеев, и подчеркнул высказывание сабельным взмахом над головой. – Мечтатель, верит во всякое, призывает, а надобно лишь исполнять.
Он еще похмурился, но больше Якова не спрашивал и пристрастию его не препятствовал. Может, только мечтательный юрист Джаншиев и будил в Якове сомнения по поводу самоотверженного фанатизма, который практиковали Варфоломеев и окружающие его служаки. Они словно смотрели в зоркую длинную трубу, видели остро, прицельно, но как же узко, очень узко, сиюминутно! Они совсем не заботились о контексте. А Яков отличался от них. У него бывали сомнения, он успевал замечать окружающих, и они интересовали его…
(это мой ответ на любопытный вопрос – а что читал Штольман? Эскиз будет потом вставлен куда-нибудь в будущие главы.)


 -->
-->

