
Февраль, 1867 год
***
Стылое февральское утро медленно бродило по громаде Петербурга.
Словно чиновник в худой шинели, только что потерявший место, оно мыкалось по набережным, обледенелым пристаням, совалось в подворотни, и душные портерные в скорбных поисках забвения…
Под свинцовым небом качалась кисея неостановимого снега. Соборы и шпили запутывались в снежистых сетях, словно рыба в заливе под рыбацкими руками. Редкие фонари и голые деревья мутнели… теряли очертания, меркли в белых косых росчерках. А в глубине этого заштрихованного дагерротипа смутно проступали темные дома.
Их высокие угрюмые валуны с ослепшими глазницами окон сегодня не отражали звуки: ни копыта извозчичьих лошадей; ни ругань грузчиков, катавших бочки; ни посвисты мастеровых - не были слышны и за два шага. Город словно обеззвучел. Все скрадывал, все смывал быстрый снег, с его шепотками вдоль улиц неслась какая-то другая жизнь…
Склоненный долу Яков шел, преодолевая метель, вдоль узкого ложа Екатерининского канала.
Слева – над высоченным доходным домом со съемными койками работных людей пенился дальний шум Сенной площади. Метель не была помехой неизбывно живому механизму толкучки, и это огромное, кишевшее на разные лады людское варево из точильщиков, барахольщиков, сбытчиков краденого, минутных сапожников и торговцев всевозможной едой - слитно стучала и гомонила, приглушаемая снегопадом, и казалось, что из глуби заснеженного пространства утробно гудит большой кит…
Едва вынырнув из чрева этого кита, где в сутолоке и давке они с Ицкой Погиляевым производили допрос, сыскной агент Штольман впал в какое-то вязкое, рассеянное состояние.
Он впадал в него уже несколько дней, проваливаясь и выскакивая на поверхность реальности, однако, продолжал непрерывно двигаться и говорить – как будто спал с открытыми глазами. С закрытыми он толком не спал вот уже две недели…
Яков брел, надвинув острый башлык, повязанный поверх шинели и фуражки, - с колючим песком в глазах и затуманенной головой, и думал о том, что дело по виртуозным ограблениям купцов, которое Путилин поручил им с Ицкой, не клеилось.
Заезжих купцов облегчали на весомые кошельки на толкучках и народных простецких рынках вроде Сенного, да Апраксина, куда те забредали по неосторожности. Да так ловко, что ни лиц, ни даже момента воровства пострадавшие не смогли заметить. Кто обчищал их и где тратил деньги – оставалось загадкой, никаких следов не было. Иван Дмитрич получил нагоняй от градоначальника, очень кипятился, грозился отправить на розыски весь отдел, но не мог оторваться от собственных расследований и потому поручил занозистое дело Ицке с Яковом:
- Сработаетесь, - коротко сказал он, - вы оба башковитые и юркие. Ищите воров.
И они искали. Двенадцать суток, как взмыленные савраски, бегали по городу, но безрезультатно. Без конца опрашивали мелких карманников, дергали перекупщиков, уже намозолив совесть низовому элементу, – но никто ничего не слышал. Они переодевались мещанами и болтались на торжищах - поигрывали сторублевками. Ругались о поросятах и пеньке, и даже приобрели у спекулянтов модные процентные бумаги Блокка, но так и не привлекли нужного внимания.
И только лишь сегодня, в середине февраля, случайно наткнувшись на знакомого долговязого щипача - Ицка поймал его за рукав, когда тот хотел прошмыгнуть мимо, – им забрезжила надежда. Мелькнула рубиновым хвостом маленькая зацепка в виде приметного перстня, снятого с пальца одного зазевавшегося купца…
***
Ицхак Погиляев, юркий еврей 28 лет отроду, которого все величали попросту - Ицкой, был маленький, да рыжий, и гляделся совершенным подростком. Он знал Ивана Дмитриевича десять лет, еще с прошлого места службы в Нарвской части. Путилин неимоверно высоко ценил его, и когда создавалось Сыскное, то переманил рыжего за собой. Путилин любил поручать ему самые трудные розыски.
Заостренный нос и скошенные глазки под красными веками делали веснушчатое Ицкино лицо как бы подслеповатым и больным, отчего на сторонних людей этот человечек производил впечатление полной ничтожности, не стоящей и внимания. С этим ничтожным видом он и проникал повсюду.
Рыжий знал все ходы и выходы злачных мест непарадного Петербурга. У него в знакомцах водились осведомители, проститутки, сомнительные дельцы и прочие личности - все были чем-то ему обязаны и с охотой делились тем, что слышали…
- Как он попал в стражники, я не знаю, - весело бормотал Иван Дмитрич, однажды вечером обгладывая куриную косточку за небогатым семейным ужином, куда Яков по обыкновению был приглашен.
Гость как раз разворачивал для Косиньки, прыгавшего от нетерпения, конфеты из кулька, принесенного в подарок вместе с копеечной книжкой. Татьяна Константиновна с улыбкой наблюдала за их занятием, а Иван Дмитриевич благодушествовал!
Они сидели в столовой под теплым абажуром, и Штольмана в который раз изумляло, как дома из строгого и горячечного начальника Путилин превращался в говорливого обывателя, в своем расшитом халате похожего на южнорусского помещика. Иван Дмитриевич посмеивался в усы, много шутил, воодушевленно жестикулировал и вертелся, и, не замечая того, походил повадками на своего пятилетнего сына.
- Ицка труслив, как заяц, - продолжал Иван Дмитриевич, - но сыщик он отменный! Я в него сразу вцепился, - вдруг рассмеялся он какому-то мелькнувшему воспоминанию. Потом, назидательно выставив указательный палец, с внезапной серьезностью сказал, - Вы, мой друг, поучитесь у этого природного гения! Всему, чему сможете.
- Непременно, Иван Дмитрич, почту за честь поучиться у него, а… - Якову не дали договорить: мать ненадолго отошла и Косинька стянул со стола весь кулек. Конфеты просыпались на пол, и мальчишка радостно заплясал над ними. «Вот непоседа!», - крякнул Иван Дмитрич и полез собирать конфеты.
- Татьяна Константиновна! – крикнул он в кухню отошедшей жене. - Помните, я рассказывал?!
Он живо повернулся к Якову:
- Как Ицка вещи ворованные в младенческих пеленках нашел? Я тогда еще награду получил!
- Награду! – вскинулся Косинька на отца и его карие глазенки заблестели.
- Иван Дмитриевич! Опять Вы при Косиньке распаляетесь, не надо! - Татьяна Константиновна вплыла в столовую уточкой, с объемным животом, прикрытым шалью, и поставила на стол блюдо с золотистыми пирожками. - Сынок, не слушай отца. Няня, уведите его, спать пора. – обратилась она через плечо к вошедшей нянюшке.
Положив теплую ладонь на плечо Штольману, она улыбнулась и окинула мужа мягким взглядом:
- Кушайте, Яков Платонович, кушайте. Вы его сильно не расспрашивайте, иначе он Вас до ночи заговорит.
- Да что Вы, Татьяна Константиновна, - засмущался Яков, краснея до корней волос, - я, напротив, перенять хочу все премудрости. Иван Дмитриевич мне пока не поручает серьезных расследований… И я…
Но Путилины опять отвлеклись от гостя: отец трепал шаловливого сына по загривку, а мать чмокала его в маковку на ночь. Яков улыбнулся. Его здесь хорошо кормили, обдавали лаской и теплом, как близкого родственника, но совершенно не слушали! Семья жила мирно и чуть бестолково, однако находила время и для него, бессемейного юнца. И он был благодарен этим радушным людям…
- С таким нюхом, как у рыжего, у меня ни одно следствие не пропало! – сказал Путилин на прощанье, провожая Якова до двери. - Когда уже и отчаивался порой, я говорил ему: «ну-ка Ицка, покажи фокус!», и он, поди ж ты! - вытаскивал вещи из трубы аль из печки! Быть бы ему первостатейным вором на мою голову, но его страстно увлекает розыск, – и засмеялся.
Вскоре после этого разговора Иван Дмитрич поставил Якова с рыжим в пару, и послал на расследование грабежей.
***
Напарник был хорош! Вымотанный бессонницей и беготней по Сенному Яков с яркой завистью наблюдал, как Погиляев за один прием выуживает из болтающегося селедкой длинного щипача нужные сведения.
- Стой, Артамоша, дело есть, - по обыкновению кося мимо, просипел Ицка в застежку щегольской пелерины, явно снятой с какого-то денежного плеча и пристроенной воришкой поверх дырявого армячишки.
- Я завсегда, со всем удовольствием! – мгновенно уверил Артамошка, опалив Ицку сверху вниз честными, навыкате, глазами, и прижал руки к щегольской обновке.
- Скажи-ка мне, брат - не слышал ли ты, кто помыл с верхов купцов заежьжих? Ловкая такая бестия. Следов никаких! Музыкант работает, аль еще кто, не знаешь?…
- Музыканта я с лета не видел, господин Ицхак, гастролирует где-то… А вот про эти удивительные со всех сторон случаи слышал. Третьего дня взяли мы, значит, полштофа с Васей, кильки с лучком насунули с прилавка, сидим, и тока я ему и говорю…
- Ты про вкусное мне потом расскажешь, Артамоша, - маленький Ицка тряхнул длинного так, что тот икнул, - сядем с тобою, потолкуем за жизнь. Сейчас по делу расскажи, некогда мне.
- Так я же и говорю! Вася мне излагал, что его знакомому барыге один залетный предлагал перстень купить рубиновый с именной гравировкой, снятый с раззявы вместе с большими тыщами. Так он не стал…
- А что же он к барыге пошел, в ломбард не сбросил?
- Этого я не знаю, господин Ицхак. Светиться, наверное, не хотел, мутный он какой-то, неспокойный был - Васин барыга его не полюбил. И сплавил к Тряпичнику.
- Который в Столярном квартирует?
- Там, вестимо… Только он уже неделю дома не живет, все на Апраксине шастает.
- Хмм, проверим… Как выглядел этот залетный?
- Вася сказал, вроде ярославский - белесый и глаза: один голубой, а другой с бельмом. Сам работает, безартельный.
- Молодец! - тряхнул Ицка Артамошку и отпустил его, - более не держу.
Махнув на прощанье пелериной, долговязый за секунду растворился в снегопаде.
Перстень следовало быстро проверить, пока не канул без вести. Сговорившись встретиться позже, они разделились: Ицка побежал влево – по скупщикам и ломбардам Апраксина, а Яков - вправо, на квартиру Тряпичника - в пугающий район Столярного переулка.
***
Нырнув в белое безмолвие снегопада на Екатерининском, Яков вдруг подумал о том, как невзначай, незаметно все изменилось. Первая эйфория от сыскной работы осталась в далеком вчера. Он заметил и это его удивило: Яков Штольман больше не тот восторженный мальчик, который полгода назад пришел работать к Путилину, снял свою первую комнатку, и летал на работу на крыльях восхищения, словно рыцарь к прекрасной Даме.
Тогда сыщицкая стезя казалась Штольману блестяще-героической, полной захватывающей лихости. Он гордился своим местом и с небрежным шиком ронял поклон, здороваясь у дверей с дежурными.
Ему казалось, что и дела в отделе особенные, и люди – будто древние витязи, наделенные скрытой силой. В суровом молчании, как жрецы, они разбирали дела просителей, и белые кителя на фоне карт придавали их труду характер строгого служения. Якову казалось, что в Сыскном всем заправляет невидимая сила знания и мужества, и эта сила покорила его с первой минуты.
Ежедневные совещания в кабинете Путилина у огромной карты Петербурга… Короткие команды, звучащие заклинанием. Сборы и переодевания сыскарей, совавших оружие по портупеям и карманам, - четкие движения бывших унтер-офицеров имели ту скупую точность, что похожа на сверхъестественное вдохновение. Штольману каждый штрих казался значительным. И всем этим действом руководил Путилин с видом строгим и задорным.
Этот человек ничему не удивлялся, и словно не ведал износа и грусти, расцветая от каждого нового кровавого происшествия. Легендарный сыщик был в своей стихии и походил на гончую, всегда готовую бежать по свежему следу, - обилие дел прибавляло ему сил. Путилин являлся в отдел то в диких лохмотьях, то гладеньким мещанином, то засаленным мастеровым, когда мокрым, когда в саже, так что и не сразу узнавали его.
В очередной раз разыграв дежурного, который ревел:
- Куда прешь, бродяга?! …Ой, не признал, Ваше благородие, прощения просим!
Он стремительно влетал в кабинет, переодевался, заказывал чаю и ватрушек, и через полчаса становился самим собой – подтянутым, чуть насмешливым начальником Сыска.
Законченных преступников и страшных убийц Иван Дмитриевич допрашивал лично с глазу на глаз. Незлобливое, без мордобития, отношение к криминальному элементу давно снискало ему известное уважение в их среде. Обаятельный собеседник, он умел и к заскорузлым сердцам подобрать ключик. Пару раз начальник брал Якова посмотреть на такое дознание и Штольман видел, что Путилин испытывает скорее жалость, чем неприязнь к тем, кого ловил. Они охотно выходили с ним на разговор, а он сокрушенно журил их, как детей, когда они сознавались.
Это впечатляло Якова до глубины души.
Меж тем, Штольман все еще не вел самостоятельных расследований, бегал по мелким дознаниям в город и был прикован к бумажной работе. Стол, за которым он сидел, считался архивным. Шкафы за спиной ломились под тяжестью старых уголовных дел. К Якову регулярно обращались за той или иной справкой, и однажды увлекшийся содержанием папок, он втянулся в изучение старых историй. Убийцы, мошенники и прохиндеи так и зарябили в глазах. Яков наловчился подмечать те или иные приемы следователей, сочувствовал прорывам и досадовал задержкам в следствиях. Наконец, он вскипел настолько, что начал проситься расследовать какое-нибудь убийство, но Иван Дмитрич был непреклонен:
- Рановато Вам, юноша. Мне сейчас некогда натаскивать Вас в городе. Вы уж изучайте дела, присмотритесь к методам дознавателей. Будет Вам практика впрок.
- Помилуйте, какая тут практика! – горячился Яков. - Надоело читать, Иван Дмитрич, поручите мне какое-нибудь задание!
- Не торопитесь, юноша, не ву торопе-па! - острил сыщик на его горячность. И опять убегал в ночь. А Яков поражался вслух:
– Когда он спит, господа?
– Вы еще не знаете Ивана Дмитрича, Штольман. Он вообще устали не ведает, – низким шепотом свистел полицейский надзиратель Келчевский, волоокий сорокалетний брюнет, бывший артиллеристский капитан.
– Помнишь, как тогда? – и он повернулся к своему напарнику Прудникову, бывшему корнету из улан, успевшему послужить чиновником особых поручений при губернаторе Шувалове.
Тот сидел за соседним столом, склонив гвардейские плечи, и клевал прибранными пшеничными усами в недописанный рапорт.
Яков вопросительно посмотрел на обоих. Прудников мгновенно проснулся и, сверкнув искрами хитрых глаз, словоохотливо доложил:
– Было у нас дело в 56-ом. Шайка душителей из босяков, сущие звери, на всю столицу ужас навели. Долго их словить не получалось… Меня еще прислали тогда от губернатора в Нарвскую часть, к ним в помощь... – он небрежно кивнул в сторону. - Не справлялись! – и насмешливо взглянул в потемневшие глаза Келчевского, продолжая, - у них и оружия толком не было, один гладкоствольный, моя шашка, да кулаки. Иван Дмитриевич тогда с кастетом ходил…
- Мы устали, это так, - не выдержал бахвальства напарника капитан, - даже унывать начали. Градоначальник рвал и метал, горожане по улицам ходить боялись. А Иван Дмитриевич! – он потянул эффектную паузу, - оделся бродягой и один пошел в шайку! Завел дружбу, да заночевал в притоне, верите, Штольман? После этого уж мы их выловили…
– Один?! – восхитился Яков, и щеки его загорелись.
– Господин Келчевский, не провоцируйте понапрасну юную храбрость, это дурная привычка! – стянув губы в комок, обронил напарнику бывший уланский корнет.
– Господин Прудников, придержите Ваши причитания для нежных барышень, на меня они не имеют влияния.
- Что вы сказали, капитан? – золотистые брови Прудникова угрожающе сдвинулись. - Мои причитания?! Вы как есть дурень стоеросовый, Ваше благородие. Это лишь необходимая военная тактика.
- Военная тактика! – довольнейший капитан Келчевский заиграл скулами так, как будто ждал этой реплики всю жизнь. – Ха. Ха. Ха. Что Вы знаете о военной тактике, корнетик? Вы еще у губернатора бумажки марали, штабная Вы крыса, когда я на Крымской кампании в артиллерии инженерил, а после с Иван Дмитричем злодеев ловил. – и широчайше улыбнулся белозубой улыбкой.
- Штабная крыса?! Да я! Да Вы!... – задохнулся от негодования Прудников и, бессильно сжав кулаки, поднялся из-за стола. Напарник покусился на святое – хрупкую нейтральность в вечном споре служивых о первенстве их войск. Обиженный до глубины души Прудников пыхтел, силясь что-то сказать, но не находил слов.
«Опять поссорились», - рассмеялся тихонько Яков и отошел к своему столу. Он зажег лампу, хлебнул остывшего чаю и открыл дела. Он так привык к регулярным пикировкам разных и совершенно неразлучных Прудникова и Келчевского, что воспринимал это частью рабочего уюта. Теперь они два дня будут горячо выяснять армейские отношения.
Так все и шло до Крещения. А потом их закрутила другая реальность, или он сам изменился?...
Постепенно начала накапливаться усталость. И утренние совещания, и разбор дел, и беготня по улицам начали сливаться в один монотонный повторяющийся день, полный жестокой рутины. Дела с грабежами и пьяными насилиями наплывали одно на другое, и не успевали они в отделе худо-бедно расправиться с одним, как тут же появлялось следующее. К концу января стало совсем худо: случилось жесткое нападение на семейство, где жертвами стали дети…
Вся полиция была на ногах, но сыскари метались без толка. Иван Дмитриевич потерял покой, разрывался и ночевал в кабинете.
Потом пришел февраль. Едва начавшись, и он не принес долгожданного облегчения – все те же дела, одно другого грязнее. Да все как под копирку: из-за нескольких рублей убивали на дорогах… Все устали. Теперь уже все. Людей не хватало и Путилин, скрипнув зубами, поручил Якову в паре к Ицкой дело по ограблениям купцов.
Яков вспомнил, как его сердце подпрыгнуло и сделало кульбит где-то в горле, он уже и не надеялся…
***
Случилось так, что 4 февраля, по исходу Сретения Господня, в отдел обратился незадачливый помещик Костромской губернии Евстрат Петрович Калинкин. Он приехал в Петербург на закупку лошадей и фуража для собственного конного предприятия - с 30.000 рублей в кожаном кошеле, который был припрятан в тайной полости на исподнем. Но… утром, одеваясь в гостинице, кошеля господин Калинкин не обнаружил. Где и когда был потерян кошель, вспомнить он не мог. И с растерянной надеждой кинулся в Сыскное.
Исчезновение тучного купецкого кошелька поначалу вовсе не взволновало Путилина. Калинкин выглядел типичным провинциальным олухом: с завитыми локонами и распушенными усами на мясистом лице, в лисьей шубе и шапке, в поддевке на красную рубаху, он походил на сельского медведя, случайно забредшего в столичный театр. Сидя на стульчике, трещавшем под ним, как сухая лоза, купец непрестанно вытирал блестящий лоб и с неожиданно тонкой жалобой в голосе молил:
- Ради Бога, господин Путилин, помогите моему несчастью! Тридцать тыщ как в воду канули… Ваше Высокоблагородие, мы о Вас наслышаны в наших палестинах - Вы способны на чудеса! Помогите вернуть кровное… Вот, у меня тут… не побрезгуйте… – он завозился и достал из кожаной торбы, брошенной у ног, завернутое в тряпицу подношение. По кабинету поплыл богатый чесночно-укропный дух.
- Что это? – удивленно вскинулся Путилин.
- Так ведь сало наше, калинкинское! Самолучшее! Солим для всей округи – соседи в очередь выстраиваются. И вот, ежели еще настоечки чудодейственной прибавить, анисовой, так оно в самый раз будет! Настойка - чистая слеза, не побрезгуйте!
И выставил на стол зеленую бутыль, наполненную маслянистой жидкостью.
Иван Дмитриевич с утра работал над свежим неприятным делом: выкупленный в честь Сретения из Литовского замка проворовавшийся писарь убил своего благодетеля и ограбил. Путилин в волнении бродил перед картой, заложив руки за спину, совался носом в районы и рассеянно отвечал купцу. И потому, увидев нежданные подарки, он сглотнул набежавшую слюну и нервно произнес:
- Уберите безобразие! Не положено! Прошение Ваше примем по всей форме, а за результат ручаться не стану – Вы ведь даже не помните, где деньги потеряли.
Он велел Якову снять показания и забыл о купце. Незадачливый понурый Калинкин отошел в дальний угол к столу Штольмана – и принялся оформлять прошение.
Но когда на неделе к ним наведался уже четвертый купец, да все с тою же бедой, Путилин навострил нюх. Последнее ограбление произошло на Никольском: с купца мало того, что деньги, еще и перстень именной сняли.
Туда-то Штольман с Ицкой и побежали в первый раз мелкой трусцой - чтобы не мерзнуть. Пока бежали до рынка, рыжий сбивчивым екающим звуком выговаривал на бегу:
- Про мою жизнь роман писать можно, Штольман!
- Расскажите, Погиляев?!
- Значит, служил я мальчонкой в лавке у портного, потом подрос и до 54-го ошивался с босяками, а потом встретил Ивана Дмитрича, - он усмехнулся, - и с тех пор служу у него верой и правдой…
Он повел крючковатым носом и замолчал.
- И что же? – Яков дернул Ицку за рукав.
- Идите к черту, Штольман! – неожиданно выкрикнул Ицка и сморщился. – Делом надо заниматься, некогда мне тут с Вами лясы точить, – добавил он и быстрым жестом отер скулу.
Яков хмыкнул и отстал.
Так и начался их бег по кругу. Когда через неделю в семь утра начальник созвал в кабинет всех сыскарей, приставов и чиновников по особым, чтобы выяснить:
- Что сделано за неделю?
Штольману похвастать было нечем. Ицка куда-то запропастился.
***
Кокушкин мост, как маленький ключик, открывает узкую щель Столярного переулка. Яков ступил на мост и пошел, упрямо сопротивляясь снегу, но тот обрушился на него удесятеренной лавиной! Налетел ветер и завертел жгучие буруны, захлестал лицо колючими пощечинами, пробрался к самому телу, и вмиг выстудил теплое нутро.
Якову стало не по себе… Замерзший канал темнел по сторонам неясным провалом, и Штольмана вдруг бешено, невыносимо потянуло спать… Редкие встречные показались ему привидениями. Они медленно выступали из белой крутящейся мглы, уплывали за плечи и таяли…
Штольман ощутил озноб испуга. Он обнаружил, что на мосту совсем один. Он все шел и шел, но как будто вовсе не двигался. Малюсенький мостик не выпускал его, а может, не впускал… К тому же он потерял ориентиры и не понимал, в какую сторону шагает - вьюга морочила ему голову.
Вдруг из этой белесой пены, в которой ничего уже не было видно, выступил человек в битых очках, перевязанных бечевкой. Человек притиснулся к Якову, и Штольман разглядел странно бледное, светящееся лицо… Сутулый, неопрятно одетый, но трезвый человек ухватил Якова за рукав и, перекрикивая ветер, с задыхающимся торжеством выпалил:
- Некоторые глупцы, лживые крикливые глупцы, не поняв тайны, осмеливаются бросать вызов аду! Тем они убивают величие истинного подвига! Думая найти лесть там, где должно видеть только постижение…
…Ветер сорвал и унес слова… Якову послышалось из снежной мглы:
- Ааааээюют. Ааайся…
Нечеткие очертания бродяги померкли, но вдруг, следующей вспышкой он дохнул в лицо ошалевшему Штольману и безумным оракулом взвыл:
- Юноша! На вас вся надежда!
Яков, вконец обессиленная надежда столичного сыска, застыл, уставясь в разбитые стекла очков, и, не видя глаз бродяги, не видя за ними ничего, впал в постыдный ужас! Очки теперь отблескивали каким-то синим свечением, и к ним не прикасался снег... Яков, цепенея, созерцал в глубине битых плошек только два пика своего башлыка – два желтых всполоха, отчего приставший бродяга сделался совсем уж инфернальным. Стекла очков, два неподвижных глаза - кошачьих, египетских, неотступно светили ему в лицо. А их хозяин опять потерял очертания в бешеной метели.
Якова прошиб пот. Откуда-то нашлись силы, и он дрожащей рукой отстранил невидимого проповедника. Странное приключение словно разбудило его, кровь побежала по жилам, и он бегом рванулся прочь.
- Не ходи туда, капитан! Возвращайся, убью-у-т! - понеслось ему вслед.
Последним рывком выскочив с моста, Яков Штольман покинул странное место и смог отдышаться. Снегопад опал и стих. Штольман снова увидел знакомые небеса, и дома, и конки…
В Петербурге царило обычное февральское утро.
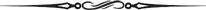
Следующая глава Содержание


 -->
-->

