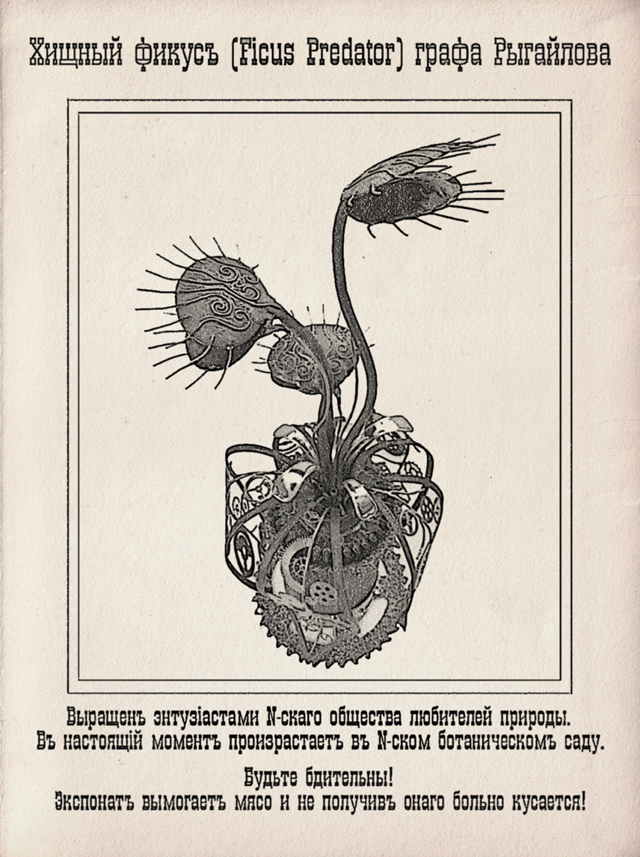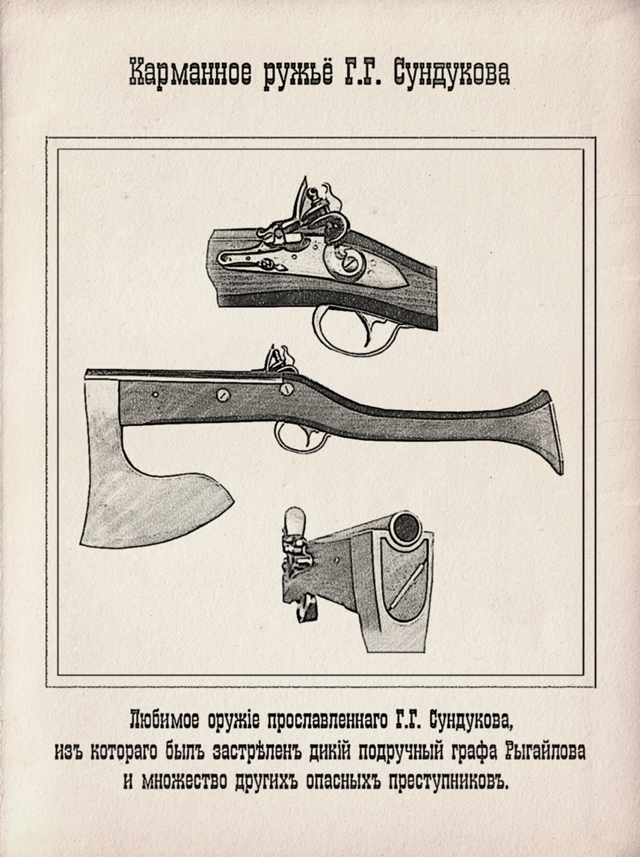"Сыщикъ и медиумъ: дикие цветы мести"

"Великий сыщик пребывал в столь возвышенном расположении духа, что даже ни одна муха, в изобилии кружившая под потолком, не осмеливалась сесть на его исходящее сияющей мыслью чело. Он очередной раз посмотрел на стоящую перед ним самым проникновенным взором и, не в силах долее сдерживаться, шагнул вперёд и упал пред ней на колени.
- Драгоценный мой друг! – воскликнул он пылко, и голос его дрожал от силы чувств. – Я люблю Вас больше жизни, безмерно, беспредельно. Бессчётный раз умоляю Вас: будьте моей женой!
Никакого ответа не воспоследовало, и та, к которой было обращено это краткое, но столь пылкое воззвание, стояла молча и неподвижно, погруженная в безразличие, но в целом пламенный герой остался доволен. На шестой раз у него, наконец-то, получилось произнести всё, что он так хотел сказать, не теряя слов и не заикаясь. Теперь доблестному Якобу фон Штоффу оставалось одно, наитруднейшее дело в его жизни. Следовало собрать всю свою беспредельную силу духа и произнести свое отчаянное признание в седьмой раз уже не перед пальмой в кабинете сыскного отделения, а пред ясными очами Авроры Романовны Морозовой, чьи лёгкие шаги, спешащие в N-скую полицейскую управу, он уже слышал всем своим чутким сердцем с другого конца города."
За окном замелькали привокзальные строения родного Затонска, поезд замедлял ход. Алексей Егорович Ребушинский поспешно свернул рукопись, засунул её во внутренний карман пальто и, подхватив саквояж, принялся пробираться к выходу из вагона, ощущая себя Одиссеем, вернувшимся на родную Итаку.
Очутившись на знакомом перроне, прославленный затонский литератор бодро втянул носом холодный осенний воздух, щедро приправленный запахом мокрой листвы, свежеиспеченных калачей, конского навоза и прочими дымами Отечества. Вернуться к родным пенатам после более чем двух месяцев отсутствия оказалось весьма приятно.
Уезжал тогда Алексей Егорович из Затонска весьма поспешно, наскоро собрав вещи и едва успев отослать последние распоряжения в редакцию. Из пущего опасения – а ну как нанятые разъярённым Мухиным головорезы отправятся за ним вслед? - никому не сказал, куда же именно он едет, оттого и вестей никаких из родных краёв не получал. В путь же мятежного беглеца тогда проводили лишь брехливые затонские вокзальные шавки, ночная тьма, да заплаканная Лизавета Тихоновна.
На первый взгляд, всё в Затонске оставалось по-прежнему. Редакция «Затонского Телеграфа», целая и невредимая, также встретила своего владельца привычной атмосферой. Редактор, оставленный Ребушинским на хозяйстве, флегматично доложился, что происшествий крупных в Затонске также никаких не случалось, а по мелочи – вот, пожалуйста, вся подшивка газеты за последние два месяца, вон она, на шкафу.
Хорошо зная своего редактора (а у Яна Яновича и визит Государя Императора в затонское захолустье, должно быть, проходил бы по рубрике «В наш город прибыли», причем не первой строчкой), Ребушинский лишь рукой махнул. «Затонский Телеграф», коли он еще не сгорел, вполне мог подождать. В первую очередь господин писатель намерен был заняться делами литературными.
Пребывание вдали от родных краев явно пошло литератору на пользу. Давно забылись многочисленные синяки, полученные от подельников зловредного Мухина, бачки топорщились задорно, новомодное пальто в клетку обтягивало еще более укрупнившееся литераторское чрево. И, что доставляло господину Ребушинскому наибольшее удовольствие, в кармане оного пальто сейчас покоилась свежая рукопись, которой предстояло в самом скором времени предстать пред очи изголодавшихся читателей - та самая, что он листал, подъезжая к родному Затонску. Впрочем, каждую из строчек своего нового бессмертного творения автор и без того знал наизусть – и теперь, спорым шагом двигаясь по главной городской улице, не без удовольствия их мысленно перечитывал.
"- Дело в моём драгоценном батюшке! – взволнованно рассказывала Аврора Романовна, в расстроенных чувствах бродившая между стен и столов полицейского участка. Изумительные каштановые кудри прекрасной спиритки в страшном волнении обвивались вокруг ее лица, выдавая охватившее её смятение. – Уже несколько дней он не ест, не пьет, не спит и не разговаривает, пребывая в ожидании какой-то зловещей опасности! Я же всем сердцем предчувствую тревогу!
Великий сыщик с пронзительным хладнокровием слушал прекрасную спиритку, но и в его сердце уже поднимали свои печальные головы семена волнения и беспокойства. Весь его благородный облик выражал полную и решительную готовность сорваться с места в карьер и броситься, дабы учинить графу Морозову любую помощь, на которую только будут способны его сыщицкие тело и дух."
Историю про безумца-дезертира, задумавшего мстить бывшим своим однополчанам, в свое время в красках поведала Ребушинскому Лизавета Тихоновна. Бог его знает, что там произошло на самом деле, но в истории точно участвовали прототипы Героического Сыщика и Прекрасного Медиума, и этого автору, никогда не грешившему особой приверженностью к правде жизни, было достаточно.
Правда, еще одним активным участником той истории был доныне здравствовавший адвокат Миронов, что поперву чуть было не заставило неугомонного писаку от своих литературных замыслов отказаться. В списке тех, кого Ребушинский законно боялся, Виктор Иванович занимал почётное второе место, сразу следом за полковником Варфоломеевым.
Но в итоге жажда творчества оказалась сильнее, и рассудив, что коли уж адвокат Миронов до сих пор его не убил, так и впредь, надо полагать, воздержится, Ребушинский всё-таки решился положить происшествие с мстительным поручиком Садковским в основу своего нового творения. Благо, буйное воображение, в своё время подхлёстнутое вдохновенным, в лицах, изложением девицы Жолдиной, уже нарисовало ему куда более красочную картину, чем мрачная история полоумного дезертира, зверски убившего троих сослуживцев.
В Затонске и впрямь ничего не изменилось. По обыкновению, прямо посреди центральной улицы какой-то ротозей ухитрился перевернуть воз с дровами. Перебираясь через них, литератор на ходу вспоминал свои собственные бессмертные строки, посвященные тому, как сыщик и медиум шли к особняку графов Морозовых через парк, ныне чуть ли не перегороженный рогатками. Вблизи от особняка Якоб фон Штофф подвергся и вовсе нешуточному риску быть застреленным графской прислугой, что, до зубов вооруженная, стерегла парадную дверь. Но мудрая Аврора Романовна быстро направила своего героя на обходной путь и в итоге провела его в дом через черный ход, на дверях которого не было даже засова.
"Граф Морозов восседал в самом сердце неприступной крепости, в которую его не знающее удержу рвение и вдохновение превратили славный графский особняк. Его несокрушимую оборону денно и нощно стерегли два десятка глаз двух десятков наивернейших слуг, но внезапное появление в самом её центре героического сыщика наглядно показало господину графу, что в крепчайших тылах сей неприступной обороны имеются зияющие и зловещие дыры.
Его Сиятельство угрюмо взглянул на доблестного начальника N-ского сыска, и седые брови его сурово заметались по насупленному лбу, точно парочка мышей в крысоловке.
- Это все ваши хитроумные полицейские уловки, господин фон Штофф, - проворчал он, махнув прославленным в веках оружием предков, кое он сжимал в своей деснице. – Мой же низкий противник воспитан в самых высоких традициях. Когда мы были друзьями, он, бывало, заходил ко мне на посошок, и всегда через парадные двери. Теперь мы враги, но я уверен, что его ублюдочной, но благородной натуре по-прежнему претит вторгаться через вход черный вкупе с дровами и мусорными ведрами!
На челе великого сыщика, коего только что приравняли к дровам, не дрогнула ни единая ланита.
- Ваше сиятельство! – с лицом, преисполненным самых серьёзных намерений, воскликнул он. – Если вы приоткроете мне дверь той таинственной правды, что томится в глубине вашей мужественной души, и изнывает от желания быть поведанной, то клянусь, она навеки останется в моих чутких ушах и не покинет их никоим образом. Кто он, сей древний и безжалостный враг? Я сделаю всё возможное и невозможное, дабы найти того, кто угрожает вам, вашим чадам, домочадцам, пажитям и стадам!
На краткий миг граф Морозов, казалось, заколебался, но затем решительным и непреклонным жестом левой руки отверг мудрое предложение храброго сыщика.
- Чрезвычайно вам благодарен, благородный господин фон Штофф! Но, несмотря на довлеющий над вами священный полицейский долг, я не намерен втягивать вас в сию древнюю и страшную историю, выходом из которой будет только смерть – моя или моего врага!
- Но как вы узнали, что сей неизвестный враг уже стоит у вашего порога? – взволнованно спросил храбрый сыщик, твердо намеренный силой или хитростью, но помочь графу Морозову, несмотря на решительный отказ того от таковой помощи. Благородный же вельможа не заметил ловкой полицейской ловушки в словах умнейшего служителя закона.
- Я проснулся ночью и понял, что враг мой близок! – воскликнул он. – Ибо даже сквозь непролазную тьму той безлунной ночи я узрел его черную бороду и кроваво-красный взгляд, прижатые к стеклу моего венецианского окна!"
Внезапно чья-то перекошенная физиономия, выглядящая немногим лучше, чем рожа воображаемого злодея, всплыла не в воображении литератора, а прямо перед его глазами. Ребушинский вздрогнул, выныривая из объятий муз, и обнаружил себя стоящим на пороге ресторации Мефодьева и разглядывающим собственное отражение в не слишком чистом дверном стекле.
Материальная сторона собственных литературных трудов поначалу не слишком интересовала журналиста. Он творил потому, что этого требовала его душа. Выход в свет самой первой части своего бессмертного произведения ему и вовсе пришлось целиком оплатить своими кровными. Но потом дела как-то тихо и незаметно пошли в гору, и в один прекрасный день Ребушинский с удивлением обнаружил, что новые «Приключения героического сыщика», что порождало его жаждущее перо, приносят ему не только моральное удовлетворение, но и вполне материальный доход.
Еще лучше дело пошло, когда, следуя бесцеремонному, но деловому совету купца Игнатова, Ребушинский отправился на поиски нового иллюстратора, способного должным образом украсить его творения, чего никак не удавалось Мазаеву, хотя он и очень старался. Даже искать долго не пришлось – судьба благоволила затонскому литератору, послав ему встречу с Серафимом Фёдоровичем Белугиным, многолетним преподавателем рисования Затонской гимназии, ныне вышедшим в отставку.
Обращаясь к почтенному Серафиму Фёдоровичу, Ребушинский испытывал некоторую несвойственную ему робость. Смутно он ощущал, что преподавателю классической гимназии, много лет пытавшемуся привить своим лоботрясам-ученикам самое высокое чувство прекрасного, может прийтись вовсе не ко двору просьба рисовать картинки для книжек, основными читателями коих были лавочные приказчики и барышни сомнительного рода занятий. Была, правда, надежда, что господин Белугин, вынужденный после своей отставки перебиваться на невеликую пенсию, заинтересуется предложением журналиста чисто с прагматической точки зрения и махнёт рукой на разумное-доброе-вечное.
Серафим же Фёдорович в итоге выслушал писателя с некоторым недоумением, но не без интереса, и попросил времени на раздумья. В качестве материала для оных раздумий бывший учитель спросил одну из уже вышедших книг господина Ребушинского, кою тот и вручил ему не без некоторого душевного трепета.
Через несколько дней Серафим Фёдорович явился в редакцию «Затонского телеграфа» и с видом самым серьёзным протянул господину редактору одолженную ранее книгу вкупе с несколькими листами карандашных набросков.
Взглянув на рисунки бывшего преподавателя, Алексей Егорович ахнул. Прекрасная госпожа Морозова, безгранично героический Великий Сыщик, его отважный помощник, многочисленные злодеи – все его персонажи, в коих он черпал своё бесконечное вдохновение, стояли перед ним как живые. Портреты главных героев Ребушинского заинтересовали особенно - они сохраняли лишь смутное сходство с оригиналами, но в то же время сразу было понятно, кто есть кто. Вот как Серафиму Фёдоровичу это удалось?
- Я ведь знаю, господин редактор, о ком вы свои книжки пишете, - строго заметил бывший учитель в ответ на его вопросительный взгляд. – С Яковом Платоновичем не имел я чести быть лично знакомым-с, а вот Анну Викторовну знал превосходно, она ко мне самолично приходила, еще в гимназические годы, уроки брать. А с батюшкой Антона Андреича мы и вовсе по молодости дружны были. Так что ежели, господин Ребушинский, вы намерены мне предложить сотрудничество, то главных ваших героев рисовать буду только так-с.
Ребушинского, хоть и возмутился он привычно в глубине души (ишь, Рембрандт в Затонске выискался!), такое положение, надо сказать, устраивало целиком и полностью. Поскольку он никогда не был вполне свободен от опасений, что кто-либо из друзей и родственников оных главных героев не учинит ему судебный иск, а излишнее сходство иллюстраций с оригиналами вполне могло вызвать подобные претензии.
Некоторые из набросков представляли собой не портреты героев, а иллюстрировали отдельные эпизоды их захватывающих приключений и выглядели, по мнению восхищенного литератора, просто потрясающе. У него даже закралось подозрение, что почтенному Серафиму Фёдоровичу самому до скрежета зубовного надоело изо дня в день рисовать гипсовые бюсты, старые кувшины и восковые муляжи яблок, и предложение Ребушинского, в какой-то мере, тоже оказалось подарком судьбы для стосковавшейся по чему-то более живому души художника.
По рукам ударили немедля. Плату господин Белугин запросил хоть и большую, чем приснопамятный Мазаев, но вполне разумную. Затонский литератор был готов выложить необходимую сумму и из собственного кармана, но сумасброд Игнатов остался верен своему щедрому обещанию и без единого слова оплатил услуги иллюстратора, добавив еще и сверху.
На встречу с упомянутым Серафимом Фёдоровичем, собственно, и направлялся господин писатель, еще с утра отправив тому записку с нарочным и пригласив на деловой обед в лучшую ресторацию города. Обычно они встречались в обстановке более простецкой – в редакции «Затонского Телеграфа», а то и вовсе у кого-либо из них дома, но сейчас Алексей Егорович был твердо намерен раскошелиться. Господину Белугину он остался должен солидную сумму за иллюстрации к своей последней книжке. Деньги эти он попросту не успел отдать, поспешно удирая, иначе не скажешь, из родного города более двух месяцев назад. Характер же у бывшего преподавателя изящных искусств, несмотря на скромное общественное положение, был непростой, цену себе он знал и вполне мог счесть себя несправедливо обиженным. Назначая теперь Серафиму Фёдоровичу встречу во владениях ресторатора Мефодьева, господин литератор желал не только расплатиться с долгами, но и умаслить хорошим расположением и обедом душу художника, чье содействие требовалось ему немедленно. Очередной бриллиант в длинной цепи «Приключений героического сыщика», коего так ждали все преданные читатели, не мог отправиться к ним, не получив достойной оправы!
Опасения Ребушинского оказались напрасны. Его иллюстратор, уже ожидавший за ресторанным столиком с чашкой кофию, встретил господина редактора с видом самым благожелательным. На предложение Алексея Егорыча совместно отобедать за его счет согласился охотно, а вот от денег, которые тот первым делом попытался ему отдать, отказался начисто, пояснив:
- Павел Евграфович со мною уже полностью расплатился.
По словам господина Белугина выходило, что купец Игнатов уже выплатил ему, заместо беглого работодателя все, что тот остался ему должен, недолгое время спустя после его поспешного отъезда. Спорить Ребушинский, разумеется, не стал. Если купчине-сумасброду угодно играть в мецената, то почему бы и нет? Другие представители сего буйного сословия, вон, и вовсе актрисок в коньяке купают целыми кордебалетами.
Правда, прятать выложенные уже деньги обратно в бумажник показалось литератору неудобным, но тут его осенило:
- Тогда будем считать, Серафим Федорович, что это аванс, так сказать. За предстоящую работу. А то вдруг опять что непредвиденное случится, все ведь под богом ходим-с!
- А что, Алексей Егорович, у вас есть повод наново чего-то опасаться? – господин Белугин взглянул на него с лукавым удивлением. – Это кого же вы на этот раз в злодеи записали?
Слова эти заставили затонского творца несколько нервически оглядеться по сторонам. Кто именно тогда, в начале августа, приложил руку к его избиению, Алексей Егорыч понял сразу же, едва помощник следователя произнес свои слова про месть, вызванную его, Ребушинского, творениями. А поняв – испугался не на шутку. Вступая на путь Затонского Мстителя, литератор заранее обдумывал разные исходы сего действа, но ни новое пребывание в каталажке, ни судебный иск его особенно не страшили. Попробовал бы Мухин что-нибудь доказать! Но к тому, что оскорблённый Аполлон Затонский перейдет к прямой уголовщине журналист был явно не готов. Полицейский! Заказывает избиение обидчика!
Отметелили его тогда, надо признаться, безо всякого снисхождения; со времен давно прошедшей буйной молодости не получал Алексей Егорович столь полновесных тумаков. А ну как в следующий раз и вовсе убьют? А если и следующего раза дожидаться не будут? Мысль эта пугала господина писателя чрезвычайно. Объявляя войну Мухину, он вовсе не собирался пасть ее жертвой, отдав свою единственную и драгоценную жизнь за спасение Затонска от злобного дурака. Он, чать, не героический сыщик!
Причем, все указывало на то, что заказанное Мухиным избиение журналиста сойдёт следователю с рук. Ребушинскому было очень жалко себя. Заявившийся в ту пору с визитом купец Игнатов, с некоторых пор самочинно записавший себя в приятели к литератору, невесёлые его выводы подтвердил.
- Чего их искать, когда они и не скрываются? Да уже всякая собака в Затонске знает, кто тебе, Алексей Егорыч, портрет испортил, и кто сему делу заказчик. Ты ж его на всю губернию ославил! Дело хорошее, правильное, но вот теперь бы тебе и впрямь уехать куда на время, от греха. Это тебе господин Коробейников верно присоветовал. Не дай бог, наш мышелов на мокрое дело решится, станется с дурака! С рук ему не сойдёт, это как пить дать, да нам-то от этого не легче будет. Вот ляжешь ты, господин литератор, рядом со своим героем и что? Памятник-то мы тебе не хуже поставим, а вот кто нам тогда про свадьбу напишет? Дело ты верное затеял, будь благонадёжен, не пропадет твой скорбный труд, а сам уезжай пока. Самый прок тебе где-нибудь на курортах подлечиться!
Игнатов всегда предпочитал выражаться без околичностей. Буйная фантазия Ребушинского тут же нарисовала картину, на которой жуткого вида бандиты, нанятые разъяренным Мухиным, лишают его, литератора, жизни неизвестным, но крайне неприятным способом. Как живой всплыл перед глазами перепуганного Алексея Егоровича номер его собственного «Затонского Телеграфа», на весь разворот которого красовалась статья в траурной черной рамке, мрачно озаглавленная «На смерть творца».
Следом же пылкое воображение выдало еще одну картину, не менее печальную – новый надгробный памятник на затонском кладбище. Памятник выглядел невероятно пышно и помпезно, куда там штольмановскому, но при мысли о том, что ложиться под него придется в самом скором времени, душа упомянутого творца запротестовала самым отчаянным образом.
- Завтра же еду! – пискнул он, сильно сбледнув с лица. Игнатов кивнул удовлетворённо и вдруг вытащил на свет божий пухлый бумажник.
- Курорты – дело затратное, - пояснил он на невысказанный вопрос, возникший в глазах литератора. – А быстро возвращаться тебе не след. Так что плачу из своих.
Ребушинский пытался для вида запротестовать, но купец и слушать не стал, махнул рукой и решительно выложил на стол несколько ассигнаций солидного достоинства.
- Езжай, Алексей Егорыч. Отдашь как-нибудь. А лучше – свадьбой отдашь! – Игнатов вдруг ухмыльнулся. – Чтобы весь ихний город N на ней гулял, да так, что и не заметили, как полгорода сожгли! Отдохни, подлечись, глядишь, и придумается что-нибудь новенькое. А мы тут пока сами за твоим Аполлоном Навареньевым присмотрим.
- С лопатой, что ли, пойдёте, Павел Евграфович? – уныло пошутил литератор, украдкой прибирая со стола ассигнации. Купец весело осклабился.
- Вот ещё – к гниде этой с лопатой ходить! Штрафы, разбирательства, то да сё, «полицейский при исполнении»… Иной раз, Алексей Егорыч, размах – он только вредит. Я тоньше придумал! Посылочку я ему собрал. Вот как ты отбудешь, так я сей презент ему и отправлю. Безобиднейшие вещицы, ни одна собака не придерётся – галстук да вязальный крючок-с!
Интересно, осуществил ли лихой коммерсант свою оригинальную угрозу? Да и вообще, чем дело-то кончилось? Сам же Алексей Егорович, после того дикого беззакония, что летом учинили над ним нанятые Мухиным разбойники, и вовсе решил пока повременить со своей Страшной Местью. В конце концов, все что мог, он уже сделал, а если даже гнусный образ ренегата Навареньева не способен поднять его сограждан на борьбу с его не менее гнусным прототипом, то кто им судья? Не то, чтобы Ребушинский навсегда отказался от почетной роли Затонского Мстителя, но наперво следовало разведать обстановку. Никогда не будет поздно написать еще одну книжку, в самых черных красках обрисовав в ней подлеца-следователя.
Приятственно же отдыхая на курорте, он старался о начальнике затонского сыска и вовсе поменьше вспоминать, потому нынешний противник Великого Сыщика, созданный его буйным воображением, не имел к Аполлону Затонскому ни малейшего отношения.
- Не извольте беспокоиться, Серафим Федорыч, - поспешно выпалил Ребушинский. – Злодей у меня исключительно вымышленный!
- Это хорошо, - одобрил собеседник, по-прежнему лукаво улыбаясь. – А то мне, право, надоело которую уже книжку злодеев со спины рисовать!
На иллюстрациях к тем его опусам, где в качестве главного отрицательного персонажа фигурировал новый затонский следователь в разных своих ипостасях, господин Белугин сразу и решительно отказался изображать оного отрицательного персонажа анфас. Честно признался, что боится. Ребушинский тогда и настаивать не стал, решив, что доля Затонского Мстителя тяжела и не всем под стать быть героями. Его бессмертные творения вполне могут обойтись и без детальных злодейских портретов, а внимательным читателям будет достаточно его, автора, пламенных слов.
Похоже, самый момент был перейти к делу, ради которого встреча и затевалась. Ребушинский открыл было рот, чтобы поведать своему иллюстратору о злодее, а также о прочих моментах и персонажах, коих Серафиму Фёдоровичу следовало всенепременно воплотить в своих рисунках, но тут рядом с их столиком возникла пара донельзя любезных официантов.
Заказа никто из них еще не успел сделать, но халдеи, улыбаясь во все зубы, ловко обмахнули столик салфетками, поставили бокалы и следом водрузили в центре стола объемистое ведерко - благородный блеск серебра, кусочки влажно блестящего льда, и бутылка наилучшего французского шампанского!
- За счет заведения-с, - угодливо поклонился один из официантов в ответ на немой вопрос Ребушинского, застывший у того в глазах. – Господин Мефодьев угощает-с.
В дальних дверях и впрямь маячила щуплая фигура владельца заведения. Перехватив взгляд писателя, он улыбнулся и, в свою очередь, вежливо раскланялся. Тут уж нельзя было списать ситуацию на то, что его, Ребушинского, просто с кем-то перепутали.
Донельзя растерянный литератор несколько неловко кивнул в ответ господину Мефодьеву и снова обратил свой недоуменный взор на шампанское. Было оно отличное, в этом он на курортах поднаторел. Восемь целковых за бутылку, не меньше! Это с каких, спрашивается, щедрот? Понятно, что давно кончились те времена, когда неугомонного репортёра в питейных заведениях по большей части возили мордой по столам и кормили его собственными статейками, но шампанское за хозяйский счет - это было впервые.
Хотя, может, господин Мефодьев нынче со всеми такой ласковый?
- Не просветите, Серафим Федорыч, а что за праздник сегодня? – повернулся Ребушинский к своему визави, которого, судя по всему, сложившаяся ситуация не удивила вовсе. Впрочем, почтенный Серафим Федорович вообще к жизни относился с философским спокойствием. – А то я, признаться, чувствую, что отстал от нашей затонской жизни-с. У нас тут всех теперь так встречают?
- Полагаю, что только вас, господин редактор, - Серафим Федорович тоже оглянулся на дверь, за которой исчезла спина ресторатора. – Не иначе, как по случаю признания ваших личных заслуг перед городом вообще и господином ресторатором в частности. Мефодьева ведь за прошедший год грабили, аж дважды, а наш малоуважаемый бывший господин следователь и пальцем оба раза не пошевелил.
В глубине души Ребушинского по-прежнему жил репортёр, потому в речи господина Белугина навострившееся журналистское ухо, помимо приятно звучащих, но несколько загадочных слов о «личных заслугах», сразу уловило еще кое-что весьма интересное. Бывший господин следователь? Уже бывший? Ян Янович, чертов чухонец, ведь и не заикнулся даже, когда Ребушинский его расспрашивал, похоже, у него это все проходит по части «мелких происшествий»!
Ладно, о том, чтобы поменять редактора, можно подумать потом. Ситуацию же с Аполлоном Затонским требовалось прояснить немедленно.
- Бывший следователь? – спросил Алексей Егорович с жадным интересом. – Это вы про господина Мухина? А что же с ним случилось?
К счастью, отставной учитель, хоть и производило впечатление строгое и благообразное, посплетничать любил не меньше, чем остальные славные горожане, потому был в курсе всех затонских новостей.
Уже через пять минут Ребушинский знал впечатляющую историю быстрого и бесславного падения Аполлона Затонского и теперь пытался в некотором ошеломлении её осмыслить. Особенно волновала журналиста его собственная роль в оном падении – ну или, скорее, та, что отвело ему общественное мнение. Ибо, по словам Серафима Фёдоровича, выходило, что именно его, литератора Ребушинского, с его бессмертными опусами про Мышемуховца и Навареньева, глас народа сделал вдохновителем и полководцем незримой битвы с зарвавшимся начальником затонского сыска!
- Говорят, сам губернатор, последнюю вашу книгу прочитав, остались очень недовольны образом злодея-следователя, - рассказывал Серафим Фёдорович, не без некоего злорадного удовольствия, но всё-ж таки понизив голос, поскольку речь шла о персонах важных. – Вызывали к себе нашего полицмейстера, полковника Трегубова, и тот всё ему подтвердил - и про господина Мухина, и про творимые им беззакония. Ну а потом уже и Степан Игнатьич Яковлев подключился – и тоже, поговаривают, без ваших книжек там дело не обошлось. Да и то, как наш господин следователь с вами обошёлся, тоже незамеченным не осталось, хоть делу хода и не дали-с. И пришёл, говорят, на господина Мухина циркуляр – гнать взашей, невзирая ни на каких покровителей. И вы знаете, так никто за него и не вступился! Видно, кто бы там нашему бывшему следователю не поспешествовал, им тоже оказалось не с руки, что их протеже на всю губернию эдак вот прославился. Так что, сколько веревочке не виться, а конец будет.
- А поскольку случилось все сразу по выходу вашей книги, где вы господина Мухина изволили во всех красках расписать – то вас, уважаемый Алексей Егорыч, людская молва главным героем сего действа и назначила! – усмехнувшись в усы, Серафим Фёдорович взял свой бокал с шампанским и с улыбкой отсалютовал им в сторону все ещё потрясённо молчавшего Ребушинского.
- Глас народа – он, вестимо, Глас Божий, да-с! Сейчас-то, известное дело, времени сколько прошло, поутихло всё, а тогда весь город только об этом и говорил. А уж в участке, говорят, тогда напились на радостях до зелёных чертей, все, от полицмейстера до последнего городового! У шаромыжников разных только вот нынче горе-с. Новый следователь, он на мышей не охотится, а вот преступному элементу, по слухам, спуску не дает!
Алексей Егорович, всё еще молчащий, что для него было вовсе нехарактерно, машинально поднял и свой бокал. Отпил, не ощущая ни вкуса, ни запаха – одно лишь горькое сожаление. Зря, зря он уехал! Ничего бы с ним не случилось за те две недели, что прошли между его поспешным бегством из города и выдворением из него же Мухина. Что ему стоило остаться - и стать воочию свидетелем всех этих потрясающих событий, ощутить всю сладость собственного триумфа, испить в полной мере чашу признательности от благодарных сограждан? А уж какая статья в «Затонском Телеграфе» могла бы из всего этого выйти! «Стараниями просвещенного и неустрашимого светоча и его неустанных литературных трудов наш благой город избавлен от скверны, пробравшейся в самое сердце доблестного полицейского участка!». Эх… Теперь-то что уже – новый день, новые заботы; хорошо вот хоть, Мефодьев вспомнил, шампанским угостил в знак признательности. Да и то пожлобился, чёртов халдей, кислятину какую-то подсунул. Восемь целковых за бутылку, дешевка!
Только через несколько минут, невероятным усилием воли, Ребушинскому удалось выкинуть из головы скупердяя Мефодьева и прочих своих сограждан, столь быстро забывших сотворённые во имя их подвиги. Недостойно его, автора бессмертной прозы, обращать внимание на такие досадные мелочи, как короткая память людская. Все равно он будет властвовать над их умами, а не наоборот; и уж точно его творениям суждено пережить всех этих обывателей-однодневок!
Невозмутимый Серафим Фёдорович, не подозревая о мрачных мыслях писателя, тем временем неторопливо смаковал неблагородный напиток, поглядывая на своего работодателя выжидающе.
- Это что же получается? Значит, теперь Антон Андреич у нас начальник сыскного? – спросил у него Ребушинский. Следовало бы скорее подумать над тем, как кадровые перестановки в затонской полицейской управе отразятся на его творениях. Уместно ли держать Гектора Гордеевича в вечных помощниках у начальника мифического N-ского сыска, ежели его прототип получил повышение? Может, и с господином Сундуковым следует поступить подобным образом? Перевести начальником сыскного отделения в соседний город. В М-ской управе, вон, место Навареньева вакантно. Хватит ему уже быть на побегушках у Великого Сыщика – пора и самому становиться Великим Сыщиком! А время от времени можно возвращать его обратно в повествование уже в новом качестве, не как помощника, а как коллегу Якоба фон Штоффа, дабы два Великих Сыщика на равных расследовали какое-нибудь особо заковыристое преступление!
- Нет-с, прислали нам нового следователя, - голос Серафима Федоровича вернул замечтавшегося литератора с небес на землю. – Еще в начале сентября. А Антон Андреич теми же днями уволился в одночасье, да и уехал вскоре.
Уехал? Вслух Алексей Егорыч ничего не сказал, осмысливая очередную новость из тех, что нынче сыпались на него точно из рога изобилия.
- Говорят, за границу подался, - продолжал тем временем господин Белугин. – Слышали ведь, наверное - Милц Александр Францевич, доктор наш, еще по весне уехал? Так вот, он так в заграницах и обосновался, не где-нибудь, а в Париже! Сам устроился и, вроде как, и Антону Андреичу по старой дружбе хорошее место подыскал. Тот и уехал, да и докторскую библиотеку заодно с собой повёз. Оно и правильно, как мне думается. Человек молодой, толковый, что ему тут, в Затонске, киснуть в вечных следовательских помощниках? Ему, надо полагать, и господина Мухина за глаза хватило.
Только когда прозвучало имя недоброй памяти Аполлона Трофимыча, Ребушинский слегка встрепенулся.
- А новый следователь – как он? – несколько невежливо перебил он собеседника. Серафим Федорович несколько неопределённо пожал плечами.
- Да тоже молодой еще человек. Говорят, дело знает. Бумажек про мышей, по крайне мере, никому пока еще не написал. Лавку мануфактурную ограбили на прошлой неделе, так рассказывали, всё там самолично облазал с лупой, с кисточками…
Кровожадная надежда, начавшая было расправлять крылья в душе Ребушинского, несколько потускнела. Похоже, что неизвестный новый следователь не даст ему возможности заново примерить на себя роль Затонского Мстителя. Что ж, придется и дальше обходиться злодеями сплошь вымышленными, или, в лучшем случае, вытащенными из пыльных уголовных дел.
У литератора тут же мелькнула мысль, что теперь, когда Антон Андреевич навсегда покинул Затонск и полицейскую управу, доступ к оным делам станет намного проще. Зная о несколько напряженном отношении господина Коробейникова к «Приключениям героического сыщика», прежде Ребушинский старался не попадаться тому на глаза лишний раз, дабы не напомнить ненароком о себе и не спровоцировать очередной мордобой в темном закоулке. Но ныне путь был открыт! Вряд ли полицмейстер Трегубов, зная о его, Ребушинского, немалых заслугах в деле изгнания Мухина-Навареньева, станет чинить препятствия писателю, буде тот возжелает досконально изучить старые штольмановские дела. Перспективы выглядели прямо-таки ошеломляющими.
Шампанское было допито, обед, превосходный во всех отношениях, был подан и съеден, с делами тоже расправились споро. Впрочем, на делах Ребушинский, вопреки своему первоначальному намерению, особенно не задерживался – просто отдал своему иллюстратору рукопись, предоставив ему самому выбирать, какие эпизоды из очередных приключений Великого Сыщика и компании тот пожелает запечатлеть в своих эскизах. Все замыслы по части иллюстраций, которые были у автора до встречи с художником, куда-то улетучились, сметённые волной ошеломляющих новостей. Ребушинский машинально распрощался с Серафимом Фёдоровичем – тот, довольный как солидным авансом, так и прекрасным обедом, клятвенно обещал сделать все в самые короткие сроки – не глядя, оплатил ресторанный счет и, выйдя на улицу, медленно двинулся в обратный путь, всё еще пребывая в вихре непривычно растревоженных чувств и мыслей.
От новостей, что обстоятельно выложил затонскому творцу его иллюстратор, в писательском сердце неожиданно кольнуло еще тогда, когда он сидел за ресторанным столиком. Ребушинский удивился сам себе, а потом внезапно понял. Ведь Антон Андреевич и Александр Францевич были буквально последними живыми звеньями, связывавшими вымышленную N-скую полицейскую управу с настоящим затонским участком! Что же это выходит, теперь никого не осталось?
И после их отъезда вся бессмертная проза Ребушинского и впрямь превращалась в «полный вымысел», как вежливо назвали её во время пребывания на курорте пара собеседников из тех, которых Алексей Егорыч пытался познакомить со своими эпическими творениями?
А как же слухи о том, что аж в губернаторском доме читают книжки затонского литератора? Помниться, летом сам полицмейстер о чём-то таком намекал. Что некие облечённые властью особы имеют интерес к творениям господина журналиста. Но выражают твердое пожелание, дабы доблестный герой бессмертного эпоса не повторил печальную судьбу своего прототипа, а оставался и впредь жив-здоров, ну и обрёл бы полное и окончательное счастье в законном браке со своей избранницей.
Выходит, не только жители Затонска, знавшие реальных участников «Штольманиады», хотели продолжения сказки о сыщике и медиуме и её счастливого окончания!
Душу Ребушинского внезапно переполнило воодушевление. Да! Вот она - его цель жизни, вот она – его высокая миссия! Он – хранитель истории, он последний, кто теперь, после отъезда Антона Андреевича и доктора Милца, может рассказать своим старым и новым согражданам о подвигах затонского сыска, о легендарном его начальнике и храбром его помощнике, о мудром докторе и о загадочной духовидице!
И он не даст их памяти истлеть, не даст им уйти в безвестность! Героический Сыщик и Прекрасный Медиум будут жить пока его, писателя, рука способна держать перо!
Отбросив, таким образом, последние сомнения в величии своей миссии и преисполнившись гордости за собственное подвижничество, бывший редактор, бывший Затонский Мститель, а ныне Великий Летописец бодро зашагал в сторону дома. По дороге он припомнил, что не было его давно уже, так что надо бы запастись продуктами, потому как труд писательский тяжек, порой хочется и чайку испить для отдохновения, а лучше и с пирогами.
Прикупив в лавке всякой снеди и дав две копейки мальчишке, чтоб доставил на дом, Ребушинский вновь повернул стопы к дому, размышляя о том, что вот он как есть теперь известный писатель, а живет, будто какой журналист, которого ноги кормят. Надо хоть кухарку завести, что ли, чтобы в лавку самому не таскаться. Да и квартирку можно подобрать получше, средства-то позволяют. Потому как музе и вдохновению требуются покой и уют, и ради его высоких планов, а пуще того, ради собственного удобства можно слегка и потратиться.
Эти приятственные мысли об изменениях в собственной Ребушинского жизни были вдруг прерваны громким и радостным криком:
- Алексей Егорыч! Вы приехали!
Ребушинский очнулся и с удивлением, но и с немалой радостью узрел идущую ему навстречу Лизавету Тихоновну Жолдину.
- Алексей Егорыч, миленький, я так рада! – воскликнула Лиза, и вдруг, от полноты, видимо, чувств, порывисто обняла его за шею. – Я ведь вас так ждала, так ждала!
- Добрый день, мадемуазель, - ответил несколько ошарашенный такой ее реакцией писатель, - И я рад вас встретить.
Лизавета Тихоновна, видимо, только теперь поняла, что сотворила, отступила поскорее на пару шагов и смущенно потупилась.
- Вы простите меня, Алексей Егорыч, - сказала она удрученно, - Это я от радости просто. Не хотела я вас конфузить. Просто… А я ведь каждый день тут гуляю. Все жду, вдруг вы вернетесь, а я вас и встречу.
В некотором замешательстве Ребушинский припомнил, что редактор его, докладывая о делах газетных, обронил еще, что никакие полицейские либо разбойники литератора не искали, а среди прочих чаще всего около редакции появлялась девица Жолдина из весёлого дома. Стало быть, верная его соратница и декламаторша и впрямь его ждала?
В смущении, посещавшем ее нечасто, Лиза была очень мила, и Ребушинский неожиданно поймал себя на мысли о том, что все-таки среди всех барышень Заведения она самая очаровательная. Собственно, он и раньше, если случалось ему посетить сие место, всегда предпочитал общество Лизы ее подругам.
- Ну что вы, право, Лиза. Ничуть вы меня не оконфузили, - снисходительно утешил он ее, - Я тоже рад вас видеть. Я вот только сегодня вернулся и собирался непременно вас разыскать.
Признаться, подобное внимание льстило. Как бы ни приятственно отдыхалось господину литератору на курорте, женским вниманием он был несколько обделен. Даже тамошние товарки Лизаветы Тихоновны по профессии, избалованные, видать, клиентурой, смотрели на него безо всякого пиетета.
Сейчас, имея вид еще несколько смущённый, скромно одетая, как для прогулки, Лиза и вовсе ничем не напоминала барышню из Заведения. Просто симпатичная девица, которая очень рада его, Ребушинского видеть. Очень приятно это было, прямо на удивление.
Глядя в сияющие глаза мадемуазель Жолдиной, Алексей Егорович вдруг вспомнил, как уезжал он поспешно из Затонска тёмной августовской ночью. Ехать надо было срочно, а сил ехать не было. Бока болели, отбитые подельниками паскудного Мухина, всё валилось из рук. Но Лизавета Тихоновна сноровисто помогла ему собрать чемоданы, крепко поддерживая под локоть, свела охающего литератора по лестнице и усадила на извозчика, за которым сама же и сбегала. И всё – соблюдая строжайшую конспирацию! Право, роль боевой подруги борца за справедливость, вынужденного бежать от злобных преследователей, стала лучшей в её так и не состоявшейся артистической карьере.
Алексей Егорыч поймал себя неожиданно на мысли о том, что глаза у барышни, между прочим, ничуть не хуже, чем у Авроры Романовны. И даже чем у ее прототипа.
- Я ведь повесть новую с курортов привез, - поведал он своей верной поклоннице, отгоняя странные мысли, - Не хотите ли почитать? Я бы рад был послушать ее в вашем исполнении. А потом чаю попьем. С пирогами.
Лизавета Тихоновна хихикнула, на миг становясь похожей на прежнюю Лизу, коей не слишком свойственно было смущение, и стрельнула в его сторону глазками. Чай с пирогами для затонского литератора и его самой преданной читательницы давно перестал ограничиваться чаем с пирогами.


 -->
-->